«Я могу писать только так, как я считаю нужным»
25 мая, 2012
АВТОР: Андрей Тесля
Расчёт и целесообразность как опыт преодоления себя
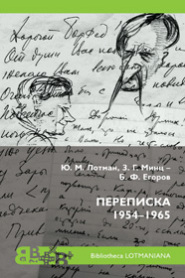
Ю.М. Лотман, З.Г. Минц – Б.Ф. Егоров. Переписка. 1954 – 1965 / Подготовка текста и коммент. Б.Ф. Егорова, Т.Д. Кузовкиной, Н.В. Поселягина. – Таллинн: Изд-во ТЛУ, 2012. – 604 с. – (серия «Bibliotheca LOTMANIANA»).
Вероятно, зрелость любой гуманитарной дисциплины в институциональном плане проявляется, в числе прочего, во внимании к собственной истории – в плотности и насыщенности самоописаний, внимании к «близкой традиции», т.е. к той части прошлого, что ещё не отделена от «современности» плотной стеной, а является прошлым настоящего. Сегодня тартуский феномен – когда маленький провинциальный факультет на западной окраине империи превратился в один из ключевых центров мировой гуманитаристики – закончился. Но тем важнее «искусство памяти», поскольку оно означает способность удерживать традицию, фиксируя её, а тем самым удерживать ключевые смыслы, давая им возможность прорасти вновь – в ином контексте, возможно, и в ином месте.
Собственно, то, сколь мало и редко встречаются в отечественной гуманитаристике подобные практики запечатления своего недавнего прошлого, свидетельствует о её печальном состоянии – память активна, как и забывание, впрочем, она требует усилия, удержания и держится только постоянным воспроизведением. Но ещё важнее – желание и способность зафиксировать, удержать в памяти то, что не стало безвозвратным прошлым, то, что отойдя в прошлое время, тем не менее ещё присутствует в рамках настоящего – в памяти участников. Оттого столь важно предпринятое Таллиннским университетом совместно с Эстонским фондом семиотического наследия издание переписки Ю. М. Лотмана (в дальнейшем Ю.М.) и З. Г. Минц с Б. Ф. Егоровым (в дальнейшем – Б.Ф.), поскольку оно представляет собой уникальный опыт совмещения академического издания с личными комментариями одного из корреспондентов, Бориса Федоровича Егорова, позволяющими восстановить детали, обычно безвозвратно погибающие или во всяком случае с огромным трудом устанавливаемые комментаторами – бытовые подробности, значение шуток и отдельных выражений, принятых и понятных только собеседникам.

Ценность переписки Ю.М. с Б.Ф. давно известна – значительная её часть была опубликована ещё в 1997 г., в подготовленном Б.Ф. издании «Писем» Ю.М., вышедшем в «Языках славянской культуры», публикация отдельных фрагментов осуществлялась в 2010 и 2011 гг.1
Она имеет большое значение с точки зрения возникновения и развития тартуской школы, формирования и эволюции научных интересов собеседников, с позиций изучения круга контактов и влияний. Мы, однако, не будем касаться этих сторон, несмотря на всю их важность, затронув иной аспект – человеческое измерение отношений учёных, отразившееся в этом редком для 2-й половины XX века эпистолярном памятнике, когда искусство писания писем быстро исчезало, заменяясь короткими сообщениями и мимолетными телефонными звонками.
Большие учёные почти всегда и большие люди. «Почти» здесь вставлено лишь ради вящей осторожности – вряд ли возможно глубокое понимание без соответствующей человеческой глубины – глубины ума, раскрывающегося в многообразных преломлениях и по другим, не связанным с научной деятельностью, специфичности характера – того, который человек приобретает в процессе проживания своей жизни, вырабатывая себя. В одной из своих мемуарных статей Б.Ф. касается вопроса о «жизнестроительстве», которое Лотман находил в Пушкине2 и утверждает, что «хотя Ю.М. и был более Пушкина “жизнестроительным”, но страстно-стихийная его натура не способствовала расчётам и целесообразности поведения»3. Но если не сводить «жизнестроительство» к расчётам – ведь вряд ли и в представлении Лотмана Пушкина можно было бы определить как «расчётливого человека» – то некоторая автобиографичность этих суждений проступает яснее: это опыт преодоления себя, своих слабостей, естественных желаний, склонностей – ради того, что представляется действительно ценным.
В переписке встречается поразительная строчка, вырвавшаяся в раздражении и печали у Лотмана по поводу склок и бессмысленной редакционной суеты при подготовки к изданию Карамзина в «Библиотеке поэта»: «И так я теряю массу времени на вещи, которых сократить не могу (семья, кафедра…)» (Ю.М. – Б.Ф., 4.II.65, стр. 442).
Есть вещи обязательные, которые от нас не зависят – и которые нам надлежит принимать такими, как они есть («семья, кафедра…»): Лотман стоически их принимает и безропотно едет на картошку, не жалуясь, принимая как неизбежность, претерпевает административные обязанности, поскольку заменить его некем. И есть то, что зависит от нашей воли и желания – и здесь стремится «желать мудро», делать только то, что действительно нужно, в стоической перспективе смерти: «…Я не собираюсь жить вечно. Поняв это достаточно ясно, я вынужден ограничить свой круг занятий, отказавшись от ряда дел, чтобы кончить начатое. Я не могу себе позволить роскоши писать работы не необходимые или только ради денег. От всего, что не представляется мне важным и интересным, я сейчас отказываюсь наотрез. Это не значит, что я собираюсь скоро умирать. Но я хочу долгое время прожить так, словно умру в конце года» (Ю.М. – Б.Ф., 4.II.65, стр. 442).

Это воля, направленная на то, что ей подвластно – на самого себя, титаническое научное усилие, когда читая по 900 уч.ч. в год, каждую неделю отводя по 14 и более часов лекций, Лотман в это же время создает свои научные труды – как атлет, упражняясь над собой, демонстрируя, насколько дух может овладеть плотью. При том по-человечески невероятном труде, который он на себя взвалил и тащил десятилетиями, Ю.М. почти не жалуется в письмах – причём жалобы, встречающиеся вначале (знаменитое «закрутился» с соответствующей карикатурой), сходят на нет – превращаясь лишь в техническое указание на невозможность ответить, загруженность: о последствиях собственного выбора не следует сожалеть, если не отрекаешься от сделанного выбора.
Не менее интересна фигура собеседника Лотмана. Борис Федорович однажды написал: «Один петербургский знакомый еще при жизни Ю. М. Лотмана, признавшись, что давно жаждал задать этот вопрос, наконец, спросил меня: “Как вы можете всю жизнь дружить с Лотманом? Неужели вас не захватывал сальерианский комплекс? Неужели вы ни разу не позавидовали ему?!” Наверное, я – неважный Сальери, или же Ю.М. такой Моцарт, который способен обезоружить потенциального покусителя…»4. Но для зависти ведь не столь важен тот, кому завидуют, сколько готовность души поддаться зависти – у Б.Ф. оказалась душа, защищённая от этого, или, вероятнее, сумевшая себя защитить.
Ю.М. и Б.Ф. достаточно разные, чтобы между ними была возможна долгая дружба – и оба они люди высокой культуры, многогранные и сложные, чтобы быть интересны друг другу, интеллектуально разрастаясь и меняясь, оставаясь для другого в поле его человеческого внимания. Но главное – порядочность, качество, отнюдь не обязательно сопровождающее интеллект и глубину научного понимания. Порядочность, которую упорно хочется вопреки всем соображениям назвать «естественной» – настолько она органична для Б.Ф., начиная с больших поступков, таких, как известное выступление на защите докторской Б. А. Бухштаба, но куда более ценная в мелких, повседневных проявлениях. Ведь труднее всего сохранить человеческое лицо в мелочах, оставаться порядочным не по «случаям», какими бы крупными и значимыми они не были, а в повседневности существования – в той ткани дружбы, которая соткана из ежедневного, сиюминутного.
М. Л. Гаспаров в «Записях и выписках» под рубрикой «вакуум» фиксирует: «Рахманинов говорил: «во мне 85% музыканта и 15% человека»; я бы мог сказать, что во мне 85% учёного… но сейчас этот процент учёного быстро сокращается, а процент человека не нарастает, получается в промежутке вакуум, от которого тяжело»5.
Скорее всего, нечто подобное мог про себя сказать и Ю.М. – и, вероятно, как раз неприменимость данной формулы к Б.Ф. сплачивала их дружбу. Для дружбы нужны двое – а для дружбы семьями так и все четверо. И если фигура Зары Григорьевны присутствует в письмах постоянно, но как правило на заднем фоне, то Светлана Александровна Николаева, супруга Бориса Фёдоровича, в письмах присутствует преимущественно на уровне поклонов и приветов.
Михаил Лотман, сын Ю.М., вспоминает: «Дружили семьями. С Егоровыми родителей объединяли не только профессиональные, но и общие общественные и этические ориентиры, которые кратко могут быть обозначены как нонконформизм» (4-я стр. обложки). Но в этой дружбе семьями многое построено на контрасте – интеллигентский, «безбытный быт» семейства Лотманов и житейская устойчивость, «правильность» существования Егоровых, укоренённость в мире – принимаемом как должное, с ясным взглядом, где наблюдение за недостатками, слабостями или даже подлостями людей не мешает признавать и их достоинства, доверия к миру, который не нуждается в специальных оправданиях. Ироничная фиксация, которая выдаёт отчётливое самонаблюдение и наблюдение за собеседником, есть, напр., в следующем пассаже из письма Ю.М. от 27.IV.64:
«Вы же человек “жовиальный” (по терминологии Бабеля), и Вам необходимы положительные эмоции – не то что нашему брату аскету и стоику. Думаю, что Вам надо держаться “академичнее”. Без такой простоты. Потому что не только сволочи, но и бывшие порядочные, а нынче такси бэ люди, издержавшие весь ум на хитросплетения и околонаучную лабиринтистику, не понимают, что можно быть простым и умным одновременно (вернее, что только так и можно быть умным). <…> …В глубине души они убеждены, что откровенность или прямота возможны лишь при глупости. А в этом поганом гнезде хуже всего быть смешным» (стр. 359 – 360).
В этой переписке отчётливо видна уникальная дружба двух интеллигентов – двух равных, поддерживающих друг друга в бедах и радующихся счастью другого – с уникальной заботой о близких, а нередко и почти случайных людях – тем, кому в данный момент есть возможность помочь. Без ложной сентиментальности, без расслабляющей снисходительности, но с готовностью дать тому, кто нуждается в шансе – в том, чтобы проявить себя в научной работе, или просто в сложных жизненных обстоятельствах – этот шанс дать. И это дружба двух преподавателей, истинных университетских наставников, полная заботы о своих студентах и аспирантах или просто о младших коллегах: для собеседников процесс обучения это всегда наставничество в древнем смысле, совершающееся без лишних слов, личным примером.
Куда важнее обсуждения научных тем – возможность поделиться с собеседником человеческим содержанием, ведь для собеседников наука есть их личное дело, они живут ею, и пафос, который явно присутствует в этих письмах – это пафос научного труда, свершения, того, что придаёт смысл жизни, но тем самым требует абсолютной добросовестности, честности научного труда. Та переписка, что перед нами, существует, заполняя лакуны личного общения – постоянных встреч и разговоров, разрастаясь с момента переезда Б.Ф. в Ленинград, но постоянно предполагающая непосредственное общение – в письмах собеседники договаривают, обговаривают и уточняют то, что было ранее сказано ими лично, и отсюда дополнительный эффект – переписка предстаёт нам как фрагменты масштабного диалога, по которым мы можем отчасти представить его, прикоснуться к плотности общения замечательных людей.
Обсуждая переход Б.Ф. в ЛГУ, Ю.М. проговаривает то, что обычно остаётся за скобками – ведь нам неловко и неудобно признаваться другим, как много они значат для нас, неловко смущать друга подобной откровенностью:
«Письмо Ваше очень резануло по сердцу, хотя оговаривать Вас язык не поворачивается <…>. Всё, что можно сказать pro и contra, Вы и сами знаете – молчу как заинтересованное лицо. Кроме того, для Вас это, видимо, неизбежно. Так что не будем разводить элегий, хотя и больше – вообще и, в частности, потому, что пустеет оазис. Что касается меня, то с Вашим отъездом я переключусь от диалога на внутренний монолог как основную форму художественного выражения» (Ю.М. – Б.Ф., 18.IV.62, стр.171).
Неоднократно, говоря о «тартусцах», отмечали закрытость, внутренний дух, сближаемый с «сектантским» и деление на «своих» и «чужих». В таких описаниях многое зависит от интонации и намерений описывающего – ведь некоторая закрытость, ставка на «своих», включение во «внутренний круг» свойственны любой активно растущей научной школе, развивающейся из небольшого ядра – сплочённой группы единомышленников, связанных не только, а иногда и не столько общностью теоретических позиций, которые сами находятся в процессе формирования и активной перестройки, сколько общностью личных отношений и общей установки в направлении научного поиска. Но помимо этих, общих для каждой подобной школы, черт, есть ещё одна – присущая тому, советскому, месту и времени – замкнутость и барьеры как необходимое условие для свободы внутреннего разговора, для возможности общаться, не оглядываясь на идеологические рогатки и т.п. препятствия, что требует именно личного доверия к другому.
________________________
1. (1) Ю.М. Лотман – Б.Ф. Егоров. Переписка 1954 – 1959 гг. / Подготовка текста и коммент. Б.Ф. Егоров, Т.Д. Кузовкина // Con amore: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой / Сост. Р.Г. Лейбов, А.С. Немзер, А.Л. Осповат, Л.Л. Пильд и Т.Н. Степанищева. – М.: ОГИ, 2010. – С. 169 – 197; (2) Ю.М. Лотман, З.Г. Минц – Б.Ф. Егоров. Переписка 1960 – 1961 годов / Вступ. ст. Б.Ф. Егорова; подготовка текста и коммент. Б.Ф. Егорова, Т.Д. Кузовкиной и Н.В. Поселягина // Русская литература. 2011, № 4. – С. 162 – 198; (3) «В идеальных условиях я не был»: Ю.М. Лотман – Б.Ф. Егоров. Переписка 1962 года / Вступ. ст., подготовка текста и коммент. Б.Ф. Егорова, Т.Д. Кузовкиной и Н.В. Поселягина // Вышгород. 2011, № 6. – С. 6 – 76.
2. Стоит отметить, что сходным образом Лотман трактовал и Карамзина – в «Сотворении…» тот оказывается собственным творением, реализацией целостного видения «человека», приведения себя в соответствие с ним.
3. Егоров Б.Ф. Ю.М. Лотман в быту: характер и поведение (1999) // Егоров Б.Ф. Воспоминания. – СПб.: Нестор-История, 2004. С. 275.
4. Егоров Б.Ф. Полвека с Ю.М. Лотманом (1999) // Егоров Б.Ф. Воспоминания. – СПб.: Нестор-История, 2004. С. 257.
5. Гаспаров М.Л. Записи и выписки. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 221.
