Александр Михайловский: Наше время Эрнст Юнгер называет «междуцарствием»
22 мая, 2018
АВТОР: Александр Чанцев

А. Чанцев поговорил с А. Михайловским, философом, переводчиком Э. Юнгера, доцентом школы философии НИУ ВШЭ: о хайдеггероведении, В. Бибихине, опасности исторического срыва, западной и российской высшей школе и новых переводах Юнгера.
Александр Чанцев: Александр, поздравляю вас — и нас, читателей, — с выходом нового перевода Эрнста Юнгера «Смена гештальта». Не могли бы вы, хотя бы кратко, представить эту вещь?
Александр Михайловский: Спасибо, Александр! Я очень рад, что это эссе наконец-то вышло отдельной книгой на русском языке. Оно содержит — ни много ни мало — прогноз на XXI век! Перевод был готов давно, но благоприятный момент возник только сейчас — проектом заинтересовался издатель Максим Сурков (книжный магазин «Циолковский»), подготовить макет с энтузиазмом взялся художник Владимир Дмитренко. Думаю, не ошибусь, если скажу: нас троих объединяет не только любовь к Эрнсту Юнгеру, но и любовь к Книге, которую несомненно питал и сам автор.
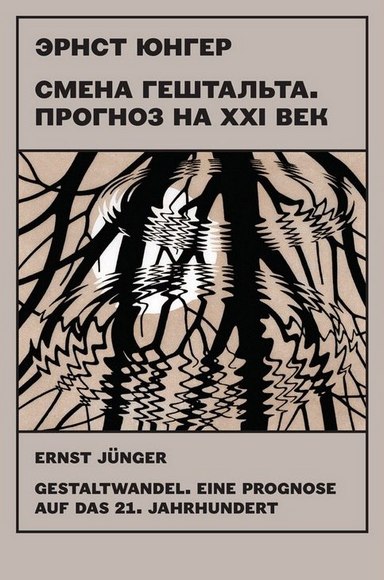
«Смена гештальта» — это последнее опубликованное эссе Юнгера, написанное специально для каталога 45-й Венецианской биеннале в 1993 г. и носившее название «Прогнозы». Тогда же Юнгер получил из рук куратора выставки Акилле Бонито Олива «Золотого льва» — «Gran premio punti cardinali dell’arte». Искусству и, прежде всего, поэзии Юнгер отводит задачу сохранения и спасения мира в борьбе против «титанов». Его прогноз вкратце таков: XXI век будет веком господства титанов и заката искусства. Однако вместе с Гёльдерлином 98-летний писатель убежден в «возвращении богов».
Искусство же, несмотря ни на что, должно хранить знание об этом возвращении. Вторжение технических средств (видео, лазера, компьютера, современных средств коммуникации) таит в себе опасность вавилонского смешения языков. В планетарном «мировом государстве», в эпоху которого мы вступили, могуществу масс будут противостоять небольшие элиты, способные придать искусству и языку новую форму. Художник не может жить в изоляции, он укоренен в культуре. «Без богов нет культуры», — вот, пожалуй, квинтэссенция всего эссе. Юнгер убежден: в художественном творении, если оно заслуживает такого названия, проявляется трансценденция, вневременное, бытие.
Мы решили порадовать не только ценителей книгоиздательского искусства, но и знатоков немецкого языка, и поэтому включили в книгу оригинальный немецкий текст. А еще я написал небольшое эссе о роли искусства в эпоху планетарной техники, которое также опубликовано в конце нашей небольшой библиофильской книжки.
Книга со своими буквицами действительно напоминает оформлением чуть ли не средневековые издания… Кажется, прогноз Юнгера — закат искусства, вавилонское замутнение рецепции главного из-за обилия гаджетов, борьба горстки элит — уже во многом сбылся… Кстати, говоря о временах после Юнгера, какое философское течение, автора или, возможно, одну единственную работу вы считаете сейчас наиболее актуальной, важной для описания нынешних времен? Появилось ли что-то, дающее если не адекватные ответы, то ставящее «правильные» вопросы?
Я прочел это эссе давно, будучи еще очень молодым человеком. После смерти автора прошел всего лишь год, но уже тогда для меня было ясно: Юнгер скорее всего не ошибается, как не ошибся он и с «Рабочим» 85 лет назад.

Скованный Прометей возвращается в виде гештальта Рабочего. Техника — это униформа Рабочего, говорит Юнгер. Освоение техники освобождает от необходимости получать образование в классическом смысле, люди учатся через наблюдение и игру; войны превращаются в полицейские акции большего или меньшего масштаба, техника переходит в магию, примером чему служат трансплантаты, химерные животные, получение фотоснимков с помощью телефонов…
Современность Юнгер характеризует в духе Ницше и Шпенглера словом «феллахизация»: оно означает существование без исторического сознания и высоких притязаний, жизнь одним днем. Но вместе с тем он действительно отмечает усиление элит, несмотря на их малочисленность по сравнению с глобальными образованиями. Наше время Юнгер называет «интеримом», междуцарствием — это такой промежуточный период, когда одна форма (связанная с классическим, европейским) уже ушла, а новая форма еще не утвердилась. И в этот период правят «титаны» и их пособники — менеджеры, технократы. Юнгер считал себя одиночкой и не видел вокруг никого, кто был бы равен ему — все великие к тому времени действительно уже умерли. Боюсь, по этой причине я не смогу назвать эту «одну-единственную» работу…
Хотя нет, недавно вышли «Черные тетради» Хайдеггера. Они начали создаваться тоже 85 лет назад, однако по завещанию автора ими должно было завершиться издание Полного собрания сочинений.
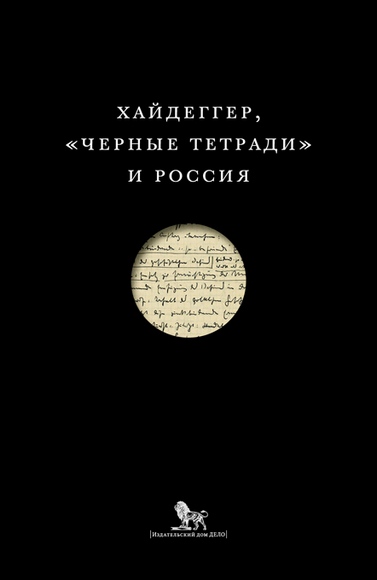
Сейчас первые два тома опубликованы и на русском языке. Эту книгу я как раз могу рекомендовать как единственную, которая ставит сегодня не только адекватные, но и правильные вопросы. Вечные вопросы философии.
«Что мы должны делать? Кто мы такие? Почему мы должны быть? Что есть сущее?».
Нынешние модные темы и интеллектуальные дискуссии, за которыми скрываются уже хорошо знакомые позитивизм и нигилизм, эгоцентризм, разочарование во всем, — это следствие глубокой оставленности бытием.
Хайдеггер, как и Юнгер знал, что нужно готовиться к новому «повороту бытия», которое открывается только для немногих знающих, умеющих хранить молчание, незатронутых привычными мнениями и кривотолками. Единственная правильная философская установка — не добиваться во чтобы то ни стало успеха, стремиться к общественному резонансу, а быть готовым услышать зов бытия и привести свою жизнь в соответствие с ним. И нельзя забывать, что для реализации этого требования необходимо «великое одиночество». Юнгер, кстати, тоже считал, что одиночество — неотъемлемая часть жизни любого человека и большое искусство. Он знал, о чем говорил в свои сто с лишним лет. Вот такое получается сообщество одиноких.
Вышел перевод этих двух томов — и опять забурлила дискуссия, что Хайдеггер в них якобы поддерживает национал-социализм. Дискуссия тем более необоснованная, что, когда «Тетради» еще только выходят в полном объеме на немецком, а на русском есть два тома, вряд ли многие их прочли. Или же эти обвинения действительно обоснованы?
Я бы сказал, что очередной виток дебатов о национал-социализме Хайдеггера — это на самом деле конец хайдеггероведения на Западе, его самодемонтаж.
В самом деле, о чем как не о самодемонтаже, говорит тот показательный факт, что предметом многочисленных высказываний и оценок западных философов и интеллектуалов, а вслед за ними и наших низкопоклонствующих российских коллег стали главным образом так называемые «антисемитские пассажи»? Фразы о «расчетливой одаренности» и «беспочвенности» (международного) «еврейства» встречаются примерно в 15 местах, рассеянных по более чем 600 страницам одного 95 тома ПСС (второй том в русском издании). Причем даже они занимают маргинальное место в контексте культуркритической теории Хайдеггера об объединении «американского» и «большевистского» начал с «мировым еврейством», выступающих главными носителями и проводниками Machenschaft, технического распоряжения сущим, и повинных в развязывании метафизического кризиса планеты. При взгляде же на западноевропейские дебаты складывается именно такое впечатление, будто «Черные тетради» состоят исключительно из «проблематичных мест».
Прав саратовский философ Михаил Богатов, когда в своей статье о (Гефтер, 21.10.2016) констатирует отсутствие какого бы то ни было polemos’а, настоящего спора о философии Хайдеггера. Для того чтобы этот спор состоялся, наверное, действительно было бы необходимо как минимум прочитать все четыре вышедших на данный момент тома, содержащие около 2000 страниц сложнейших для понимания текстов. Я сам читаю медленно, и допускаю, что многие читают философские трактаты быстрее. Но каждое предложение из поистине грандиозной мыслительной лаборатории Хайдеггера требует не меньших усилий, чем интерпретация фрагментов Гераклита. Поэтому я не мог себе представить, чтобы меньше через год после публикации этих эзотерических записей Хайдеггера начали выходить масштабные исследовании о «казусе Хайдеггера» и раздаваться мнения об «отсутствии философии» в «Черных тетрадях».
Герменевтическая стратегия Хайдеггера оказалась безупречно точной именно потому, что она ничего не просчитывала. Можно сказать: Хайдеггер предполагал высокую вероятность того, что западное хайдеггероведение окажется несостоятельным, столкнувшись с величием германской мысли. В «Замечаниях III» Хайдеггер намекает на опасность «потопа болтовни», ибо уже «в последнее время стало окончательно ясно, что говорение и в будущем останется столь же бессмысленным, каким оно являлось все последние годы».
Очевидно, что большинство западноевропейских исследователей Хайдеггера (не говоря уже о журналистах) не смогли ответить молчанием на молчание Хайдеггера, то есть увидеть в его молчании одинокое «стояние в бытии», следящее не за внешними событиями исторического процесса, а за самой судьбой бытия. Хайдеггер не смог передать своего дела духовно близким потому, что рухнула та незримая Германия, с которой он связывал свои надежды.
Но однажды, уже после войны, философ признался в разговоре со своим французским учеником Жаном Бофрэ:
«Возможно, Россия станет той единственной страной, где по-настоящему поймут, что я хотел сказать в „Бытии и времени“».
Покойный В. Карпец успел заметить, что современные дебаты о «Черных тетрадях» en gros проходят — именно в силу объективных требований публично организованного дискурса — мимо основного события философии Хайдеггера, мимо самой основы его мысли, а именно, молчания. Но у меня есть надежда, что русская рецепция Хайдеггера, обогащенная оптикой таких замечательных философов, как Владимир Вениаминович Бибихин, дает нам шанс на продуктивное понимание философии Хайдеггера.
Как вы оцениваете русский перевод «Черных тетрадей»? И, говоря о переводах и рецепции Хайдеггера в целом в нашей стране, как вы воспринимаете перевод и трактовку Хайдеггера именно В. Бибихиным?
Недавно на русском языке вышел второй том «Черных тетрадей» («Размышления VII—XI») с записями 1938—39 годов. Перевод в литературном отношении сделан прилежно. Однако само издание — один сплошной курьез. Во-первых, ни переводчик, ни редактор, ни спонсор — никто не счел необходимым снабдить русский перевод каким-то предисловием или послесловием. Можно, конечно, сказать: пусть говорит сам Хайдеггер. Но, как я уже заметил, это эзотерический текст, точнее говоря, текст, адресованный читателям будущего, возможно, русским читателям будущего. И здесь требуются пояснения. Без них голос Хайдеггера просто глохнет в журналистском шуме.
Во-вторых, книга вышла в «Издательстве Гайдара». Вы можете себе представить? Где Хайдеггер, и где Гайдар? А тут они оказываются вместе. Сейчас команда, которая делает эти переводы и грозится выпускать один за другим все продолжающие выходить под редакцией Петера Травни тома «Черных тетрадей», готовит хайдеггеровский номер журнала «Логос». Судя по анонсу, он представляет собой попытку импортировать уже практически завершившуюся в Европе дискуссию о национал-социализме и антисемитизме Хайдеггера на российскую интеллектуальную почву. Результат этой политики российских издателей легко предвидеть: им станет очередная редукция мысли Хайдеггера к известному сюжету политической истории, фиксация немецкого мыслителя в немецком прошлом восьмидесятилетней давности и фатальный отказ воспользоваться открытой им возможностью перехода к новому началу мышления.
Как это часто случалось в отечественной интеллектуальной истории, в особенности с западниками: люди не видят и не понимают очевидных вещей, происходящих в России и с Россией, которые как раз очевидны внимательным западным наблюдателям. В прошлом году в издательстве Rawman & Littlefield вышел сборник статей под редакцией Джеффа Лава «Хайдеггер в России и Восточной Европе». И вот как авторы оценивают русскую рецепцию Хайдеггера на примерах Бибихина, Ахутина, Хоружего и Дугина. Она, считают они, имеет дело с концом западной философской традиции, которая не вызывает ностальгии, но скорее связана с надеждой на то, что конец западной философии открывает возможность для альтернативных способов мысли. Способов мысли, кажущихся недоступными для западных философов, потому что те слишком глубоко окопались в своей мыслительной традиции, чтобы увидеть что-то за ее пределами.
Русская рецепция Хайдеггера в этом отношении близка к французской. Это уже мое наблюдение. Похожим образом значение Хайдеггера для будущей философии оценивает, например, Бадью. Поэтому ни в коем случае нельзя зацикливать Хайдеггера на прошлом, на истории с Холокостом и прочими болезненными для западных, но только не для российских интеллектуалов вещами. Зачем заниматься индукцией травм, от которых тебя уберегла твоя история? У Хайдеггера есть другие, более актуальные для нас места.
Например, в одном эзотерическом трактате 1938 года «История бытия» он рассуждает о взаимоотношении Германии и России в контексте своего учения о «четверице». «История Земли будущего заключена в существе русского начала, которое еще не освободилось для себя самого. А история мира — это задача, поставленная немцам для осмысления».
И несколькими страницами дальше:
«Россия, которую мы не можем завоевать и уничтожить в техническо-культурном смысле, но которую мы можем освободить для ее сущности и открыть ее для всей широты страданий как для сущностного спасения Земли».
Заметьте, Хайдеггер не вымарывает эти строки после окончания Второй мировой войны, более того, предназначает их для посмертной публикации в центральной части своего Полного собрания сочинений. Я так считаю: если мы уважаем мыслителя, значит, нужно к нему прислушаться. А если мы смеемся и издеваемся над ним, приравниваем его мысль к Гитлеру, немецким танкам и концлагерям, тогда зачем его публиковать? Или публиковать, чтобы как раз посмеяться, расквитаться с ним? Тогда за что?
Вот поэтому нам нужно очень бережно относиться к тому, что сделал для русской рецепции Хайдеггера Владимир Бибихин. Джеф Лав, кстати, называет его «одним из самых проницательных читателей Хайдеггера». Не в России, а вообще! И он, конечно, прекрасный переводчик. Можно по-разному относиться к экспериментальному переводу «Бытия и времени», который вышел в издательстве Ad Marginem в 1997 году, но нельзя не признать, что это перевод без единой ошибки. В самом буквальном, школьном смысле этого слова.
Правда, лично мой фаворит среди переводов — это первый постсоветский сборник работ Хайдеггера «Время и бытие», вышедший пятидесятитысячным тиражом в издательстве «Республика» 1993 году. С чтения опубликованных там переводов статей «Время картины мира», «Европейский нигилизм», «Учение Платона об истине» для многих начиналось первое знакомство с главной мыслью XX века, как совершенно правильно назвал философию Хайдеггера Бибихин. Он же проблематизировал и «дело Хайдеггера» и «другое начало» русской философии.
Еще в 80-е гг. у Бибихина сформировался образ Хайдеггера как философа «идеологической нищеты» и критика позднего модерна, который увидел в идеологии национал-социализма с его претензиями на мировое господство последнее слово онтологического нигилизма. Взгляд Бибихина — в большей мере, чем об этом пишут или говорят российские исследователи — это взгляд на Хайдеггера через призму деконструктивизма Деррида, который Бибихин истолковывает как задачу «разбора» построек мысли, чтобы добраться до ее абсолютного начала — молчания перед тайной бытия. Наше философствование оказывается условием для переосмысления нашей жизни, нашего отношения к другим, к миру, причем именно тогда, когда, как это предвидел Хайдеггер, нас окутывает такая сильная тьма, которой мы не знали никогда раньше. Деконструкция европейской метафизики как забвения бытия в самозабвенном эгоизме и нигилизме прочно связана с именем Хайдеггера в русскоязычном пространстве во многом благодаря переводам Бибихина и его собственным интерпретациям. Мы должны помнить об этом счастливом обстоятельстве. Мысль Хайдеггера — это возможность для русской философии, о чем говорит весь постсоветский период в интеллектуальной истории нашей страны.
«Россия, которую мы не можем завоевать и уничтожить в техническо-культурном смысле, но которую мы можем освободить для ее сущности и открыть ее для всей широты страданий как для сущностного спасения Земли» — фраза, заметим, актуальная до сих пор в свете все усиливающегося противостояния Запада и России, и действительно, нельзя не оценить мужество Хайдеггера, не убравшего ее из последующих изданий… А как вы относитесь к работам уже самого Бибихина? Могу ошибаться, но мне кажется, философы последних советских и первых постсоветских мало кому известны — или известны адекватно, — но могут быть сравнены с серебреновечной русской философией хотя бы по накалу смыслопоиска. Я говорю про Лосева, Аверинцева, Бибихина, Налимова, Хоружего, отчасти Галковского, Головина…
Владимира Вениаминовича Бибихина я считаю своим учителем. Это, несомненно, выдающийся философ, причем европейского уровня. Он стал широко известен в академических кругах в начале 1990-х гг. благодаря лекциям в МГУ, собиравшим поточные аудитории, потом благодаря нескольким бестселлерам, среди которых я назвал бы прежде всего «Язык философии» и «Новый Ренессанс».

Не хочу повторять того, что я уже говорил в своих некрологах, интервью и статьях о Бибихине. Но мне кажется, в контексте вашего вопроса, важно отметить один момент — у Бибихина было глубокое понимание тех революционных изменений, которые происходили с нашей страной на рубеже 80—90-х гг. Он четко распознал главную опасность в ситуации напряженного ожидания перемен — опасность исторического «срыва» отдельных личностей и всего общества: либо оптимистического срыва в безудержный активизм, стремление все сломать и выстроить по-новому, руководствуясь заимствованными кальками и шаблонами, либо идеалистического срыва в пассеизм, болезненное и мучительное переживание «России, которую мы потеряли». Незадолго до своей преждевременной кончины в конце 2004 года он, по-моему, увидел, что мы близки к тому, чтобы упустить шанс «другого начала».
Неслучайно в 2003 г. он опубликовал одноименный сборник статей. Там же была и важная статья о «своем, собственном» — мощное и смелое (в том числе, если иметь в виду резонанс от дела ЮКОСА) высказывание о судьбе собственности в России. Там он рассуждает о том, что русское слово свобода, производное от своего, помогает понять собственность, proprietas, не в смысле принадлежности себе, а в смысле обретения своего как собственной сути. Собственность — это не голая юридическая принадлежность, а способность дать вещи стать собственно ею самой и дать самому себе стать собственно собой. И быть захваченным этим процессом. Иными словами, собственность — это не только набор вещей или другой объект контракта, но это и качество или состояние, когда что-то существует как собственно оно само. Собственность — это свойство того, «что вернулось к себе и стало собственно своим». Любимый пример Бибихина: земля становится собой, когда ею пользуются как землей, а не как просто пространством для перепродажи и прибыли, т.е. когда ее «осваивают» (начиная с Кодекса Юстиниана освоение и пользование есть первая составляющая права собственности.)
Поэтому никто так не освоит землю, не сделает ее собственно землей, как крестьянин, в нее вросший и на ней выросший. Присвоит любой, освоит не каждый. И следующий диалектический ход, который Бибихин делает вместе с Гегелем, заключается в том, что стать собственно самим собой может лишь тот, кто помог вещи стать собственно ею самой. Вы видите, насколько органично у Бибихина сочетается русская философия с европейской философской традицией. Это школа в лучшем смысле этого слова, дисциплина мысли. Но, к сожалению, а может быть, к счастью, эта школа не получила никакого институционального оформления. Почему — другой вопрос из области социологии знания, интеллектуальной истории. Эта мысль также не имела и широкого общественного резонанса ввиду того зачаточного состояния, в котором в первое постсоветское десятилетие пребывала публичная сфера. К тому времени классический тип «интеллигента» уже ушел (Бибихин еще успел издать перед смертью книгу воспоминаний о своем учителе А.Ф. Лосеве и своем друге-сопернике С.С. Аверинцеве), а новый тип «интеллектуала» еще не появился.
Так вот, практически все перечисленные вами философы — это замечательные мыслители, ученые, переводчики, причем, как правило, и мыслители, и ученые, и переводчики вместе (как, например, математик С.С. Хоружий, который является блестящим переводчиком Джойса и теоретиком синергийной антропологии), но они не создали школы в расхожем смысле этого слова. Они были одиночками, вокруг которых существовал более или менее сплоченный круг одиночек (как, например, кружок Головина). И во всяком случае, их уровень никак не ниже, а во многих случаях и выше, чем уровень философов Серебряного века. Философия как любовь к мудрости — это вообще дело одиночек.
Я считаю, что в постсоветский период в нашей стране сложилась такая двойственность, одновременность публичного и непубличного обсуждения и осмысления философских вопросов с характерным преобладанием второго типа над первым. У этого есть, конечно, предпосылки в позднесоветском периоде и даже раньше. И то, что обычно изображается «критически мыслящими» и «свободно парящими» интеллектуалами как недостаток, может оказаться в нашей ситуации преимуществом. Идеологическое давление на философию в советский период было хорошим уроком. К сожалению, его тоже часто забывают, стремясь подстроиться под господствующие формы дискурса — очевидно, ради каких-то внешних по отношению к самой философии целей.
Любопытное совпадение — буквально на днях я написал о «Другом начале», хотя, конечно, глубоко лирического свойства. В Серебряном веке философия и религия, их поиск часто шел очень близко, если не слитно. Есть ли сейчас столь же значимые пересечения философии и религии?
Да, очень хорошо, что сейчас переиздали эту книгу, спустя пятнадцать лет. Кстати, в этом году должен выйти первый перевод В.В. Бибихина на немецкий язык. Так получилось, что это будет именно ! Среди героев книги — и К.Н. Леонтьев, и В.В. Розанов, и В.С. Соловьев. Там много текстов, написанных или в самом начале 1990-х годов или даже в конце 1980-х, например, «Свои и чужие». Это время очень важное, наверное, самое важное, для понимания российской интеллектуальной истории, да и вообще всей истории, случившейся с советским(?), российским(?), русским(?) политическим субъектом. В интересующем нас плане речь идет о том, что тогда разгорелась нешуточная борьба за освоение наследия русской религиозной философии Серебряного века. Отголоски этой борьбы можно, например, найти и в книге Сергея Сергеевича Хоружего «После перерыва. Пути русской философии» (1994).
Решался вопрос о том, какая, с позволения выразиться, герменевтическая, интерпретативная стратегия победит. Ведь тогда на того же Соловьева, с одной стороны, претендовала так называемая «русская партия», журнал «Наш современник», не говоря уже о некоторых партийных идеологах, которые в срочном порядке должны были менять ориентацию. С другой стороны, свои права на религиозную философию предъявляли академические люди, историки русской философии и, конечно, те, кто так или иначе возводил свою духовную родословную к Серебряному веку через А.Ф. Лосева. Победа осталась за вторыми, но в смысле перспектив развития русской мысли она ничего не решала. Наследие было переиздано, изучено, прокомментировано, это правильная работа, которая ведется до сих пор, причем на очень высоком уровне. Но было совершенно понятно, что дискурс «религиозно-философских обществ» первых двух десятилетий XX столетий невозможно, да и не нужно воспроизводить сейчас. Тогда они возникли как реакция на материализм и позитивизм конца позапрошлого века, но в то же время их отличал очень либеральный, антитрадиционный дух. Весь русский религиозный ренессанс был своего рода педократией, властью детей, которые выступали против всего отжившего и реакционного, за все прекрасное и светлое.
В 90-е годы социокультурная и политическая констелляция была совершенно другой, да и «властью детей» тогдашнюю интеллектуальную ситуацию назвать нельзя. Тем более нельзя говорить об этом применительно к последнему десятилетию. Опять-таки вспомните, какую роль на рубеже XIX—XX веков играла поэзия, и насколько маргинальное место в современной литературе она занимает теперь…
Конечно, некоторое сходство ситуаций есть. Мы также находимся в ситуации засилья позитивизма. Ловишь себя на мысли, что нынешние нейрофилософы, любящие порассуждать о свободе воли как биологической иллюзии, не так уж и далеко ушли от дарвинистов разных мастей, которых было пруд пруди в конце XIX века. И тем не менее, я считаю, что сейчас такой же синтез философского и религиозного невозможен. И это хорошо. Все-таки философия и религия — не два типа мировоззрения, близких друг другу, как думают многие. Опять-таки дело здесь не в противоположности рационального и иррационального подходов. Религия — это отношение веры, то есть доверия Богу. Философия же немыслима без постоянного требования «дать отчет»: так она понимает себя со времен Сократа и Платона — как искусство беседы, умение ответить на вопрос, в чем сущность того или иного предмета или явления, чем одно существенно отличается от другого. Поэтому если мы и можем говорить о каких-то новых шагах вперед русской философии «после перерыва», то это будет прежде всего отчетливое понимание задач философии как «строгой науки» и связанное с ним уважение границ между различными видами интеллектуальной деятельности.
Про нынешнюю популистскую нейро(не)философию с картинками, но не текстами в Фейсбуке даже нечего и сказать… Мы много говорили о российской ситуации. Между тем вы много общаетесь с западными коллегами, участвуете в научных симпозиумах, регулярно, насколько мне известно, бываете в Германии. Какое отношение к философии там? Какие главные тенденции?
Я бываю не только в Германии, но больше всего научных и дружеских контактов у меня действительно именно с этой страной. Трансформация немецкого философского и — шире — университетского ландшафта (я сейчас говорю о философии в узком смысле как академической дисциплине) происходила на моих глазах. Начало 1990-х годов в этом отношении показательно не только применительно к России. От некогда великой немецкой философии, то есть аутентично немецкой, на территории двух Германий во второй половине прошлого века продолжали существовать по большому счету только две традиции — марксистская на Востоке (ну или, если быть точным, марксистско-ленинская) и феноменологическо-герменевтическая на Западе.
Я имею в виду как традиционные центры феноменологических и герменевтических исследований, где преподавали ученики и ученики учеников Гуссерля, Хайдеггера, Гадамера — Кёльн, Вупперталь, Фрайбург, Тюбинген, так и выходцев из «школы Риттера» — влиятельных социальных мыслителей либерально-консервативной направленности Херманна Люббе, Одо Маркварда, Роберта Шпеманна. После воссоединения Германии все университетские позиции на философских факультетах Восточного Берлина, Лейпцига, Дрездена оказались заняты профессорами из Западной Германии, как Вы понимаете, второго или даже третьего эшелона. Главное, что чистка кадров была произведена. Поэтому из представителей левой мысли на просторах Германии остался парить только франкфуртец Юрген Хабермас, который, кстати, в 90-е годы значительно поправел. Что же касается критиков модерна справа, то Марквард умер два года назад, а Люббе исполнилось уже 92 года. В этом отношении состояние философии в Германии скорее предсмертное или даже «постумное». Еще один показательный факт — после скандала вокруг «Черных тетрадей» ушел на пенсию герменевтический философ Гюнтер Фигаль, возглавлявший «кафедру Гуссерля и Хайдеггера» во Фрайбурге-в-Брайзгау.
Теперь чиновники в Берлине решают вопрос, кому ее отдать. И ближайшие кандидаты — аналитические философы. Вы спрашиваете о тенденции: в те же приснопоминаемые девяностые годы я имел возможность наблюдать, как в кабинетах немецких профессоров философии в бывших восточных землях собрания сочинений Маркса заменялись собраниями сочинений Витгенштейна, причем на английском языке. А в западных землях этот процесс начался еще раньше. Ну кто-то мог бы еще, конечно, вспомнить, что в Билефельдском университете сидел последний великий немецкий социолог Никлас Луман. Действительно сидел, и к нему даже приезжали философы и социологи из России. Но вот теперь я читаю в газете , что в этом самом университете студенты открыли воркшоп по женской мастурбации. Студенческая инициатива. Имеет отношение к немецкой философии? Косвенное, но имеет.
Билефельдский университет создавался при активном участии социолога Хельмута Шельски как реформ-университет, как немецкий Гарвард, во многом в противовес классическим стандартам и с упором на «междисциплинарные штудии». В 1968 году в Билефельде как раз начал работать Луман… Думаю, немецкие философы поколения 1968 года должны были бы быть довольны. Они победили. Расскажу еще только один анекдот от Армина Молера, который после войны работал одно время личным секретарем Эрнста Юнгера. Так вот, он как-то разговорился с одним французским офицером в Тюбингене. Тот как раз вернулся из американской зоны оккупации, где имел возможность в деталях наблюдать весь ход «перевоспитания» (Umerziehung) немцев.
И вот этот француз, не обделенный чутьем в отношении практической политики, передавал юному Молеру, кстати, швейцарцу по происхождению, свои впечатления:
«Американцы творят какое-то безумие. Вот это перевоспитание… Ведь мы же с вами прекрасно знаем, какие немцы прилежные ученики, они быстро всё усваивают. И очень скоро они будут уже поучать нас, проповедовать нам демократию и объяснять, что правильно, а что нет….».
Молер выводил отсюда всю идеологию второго поколения Франкфуртской школы, которую искренне терпеть не мог. Я свободен от такого рода неприязни, но этот анекдот действительно наводит на печальные мысли. В оккупированной — и в идеологическом и в прямом смысле — стране никакая серьезная философия долго существовать не сможет.
Не думал, признаться, что все так плохо… Есть ли положительные моменты в отечественной образовательной системе? Кто в первую очередь идет сейчас обучаться философии? Приходилось слышать, что «поколение ЕГЭ» и гаджетов особенностями своего мышления и восприятия качественно отличается от предыдущих, так ли это?
Ну, в германских университетах не все так плохо, конечно. Германские вузы стабильно входят в топ-100, в том числе Гейдельберг, Фрайбург, Мюнхен. Но Гейдельберг и Фрайбург известны вовсе не в связи с философией, а как центры медицинских исследований, Мюнхен — кузница Нобелевских лауреатов по техническим и естественным наукам. Вы спрашивали о философии — я честно ответил. И дело тут, как вы видите, далеко не только в соответствии наукометрическим показателям.
Вот мы сейчас тоже сходим с ума по поводу попадания в топы по разным рейтингам. У нас даже существует программа 5-100, принятая на правительственном уровне. Все борются за финансирование, меряются, так сказать, мышцами и извилинами. С точки зрения студентов это, наверное, неплохо. Если говорить о наиболее динамично развивающихся вузах, к которым, безусловно, относится Высшая школа экономики, то это и разнообразие образовательных программ, гибкость учебных планов, лучшие преподаватели и ведущие исследователи в своих областях, разнообразные возможности для зарубежных стажировок и т.д. Жить стало объективно лучше и веселей. Но с точки зрения преподавателей и научных сотрудников ситуация будет выглядеть иначе. Прежде всего, это постоянно возрастающее давление — не со стороны конкурентов, как можно было бы подумать, когда речь идет о либерализации системы образования, а со стороны администрации, которая «держит в уме» эти самые 5-100. Давление выражается в требовании публиковаться в высокорейтинговых, т.е., как правило, англоязычных журналах.
Пару лет назад я присутствовал на международной конференции по наукометрии на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, и один немецкий коллега там риторически вопрошал, обращаясь к российским философам и гуманитариям:
«Что вы делаете? Зачем вы разрушаете собственные научные издательства, журналы, пытаясь приспособиться к чужим и создававшимся под другой заказ требованиям, неужели у вас не сложилось собственных традиций за 250 лет существования высшего образования?».
Несомненно, он имел в виду собственный опыт, понимая, что жизнь по чужим правилам и погоня за экономической эффективностью, а лучше сказать, псевдоэкономическим прагматизмом в науке убийственны для науки.
Вот свежий пример — Академия наук отказывается сейчас содержать редакции научных журналов. Пятьсот редакторов научных изданий больше не нужны академикам и государству. Очевидно, что в перспективе ни о какой самостоятельной науке речи уже нет. Россия попросту не сможет оставаться научно-исследовательским регионом, да она и не будет никому интересна в таком качестве. А ведь философия к вопросам суверенитета, свободы, права говорения на своем языке очень чувствительна…
То же самое касается и образования. Почему-то мы не озабочены тем, чтобы сохранять и развивать сильные стороны нашей вузовской системы, а с готовностью превращаем ее в еще один сектор образовательных услуг по англо-американскому образцу, не желая честно признать, что там совсем другие системные условия.
Кто приходит (пока еще) обучаться философии? В общем-то, те же, кто всегда — кто любит читать и спорить, кто со школьной скамьи задается «проклятыми вопросами» Достоевского, у кого есть влечение к огромному океану человеческой мысли и предчувствие свободы, которое дает прикосновение к этому океану. Это, как правило, люди, которые не то чтобы не умеют, а не хотят думать прагматически, как этого требует от них общество. Им это попросту безразлично. Общество же всегда было в этом отношении одним и тем же. Родственники Фомы Аквинского, например, тоже чинили всяческие препятствия юному аристократу, которого неудержимо влекло к философии и богословию. Впрочем, таких мотивированных студентов и студенток на каждом курсе из года в год бывает не более 10 процентов. Я преподаю уже двадцать лет, и с отрадой наблюдаю, что эта доля всегда остается примерно одной и той же. Остальные — это обычные, нормальные студенты массового университета, где они просто проходят необходимую социализацию. И здесь каких-то серьезных отличий между поколениями, пожалуй, нет. Разве что студентам приходится иметь дело с меньшим количеством книжек и тетрадок. Это полезно для здоровья, меньше шансов заработать искривление позвоночника из-за тяжелого рюкзака и сидения в библиотеках.
Возвращаясь к главному герою нашей беседы. Кто Юнгер лично для вас, кем является?
Эрнст Юнгер сопровождает меня как читателя со студенческой скамьи, хотя это знакомство напрямую никак не связано с моей учебой в РГГУ: тогда это имя и в Германии мало кто знал, не говоря уже о том, чтобы изучать его творчество в вузах. (Замечу на полях: теперь-то он уже признанный классик современной немецкой литературы.) Но знакомство это никак нельзя назвать случайным. Вот есть такая привилегия у читателя: выбрать себе в спутники какого-то автора! У самого Юнгера, читателя не менее великого, чем Борхес, тоже были такие спутники — Ривароль, Гёте, Стерн, Стендаль, Достоевский, Э.А. По, Леон Блуа. Это и есть настоящее приобщение к литературе; оно всегда имеет личный и симпатический характер. Ведь друзья твоих друзей часто становятся и твоими друзьями.
Юнгер для меня прежде всего авторитет. В каком смысле? Сергей Сергеевич Аверинцев обращал внимание на то, что auctor и auctoritas, однокоренные слова, происходят от латинского глагола augeo. Этим глаголом выражается идея некой божественной, космической инициативы: ведь и жрецов в Риме называли авгурами. «Приумножаю», «содействую» или просто «учиняю» — привожу нечто в бытие или увеличиваю потенцию уже существующего… Тут дело даже не в личной харизме автора, хотя харизмы Юнгеру не занимать — как писателю, воину, путешественнику, денди.
Юнгер всегда знал о том, что для настоящего художника, и в том числе художника слова, творчество и приближение к Божественному — две стороны одного и того же процесса. Читая и перечитывая двадцатидвухтомное собрание сочинений — философские эссе, военную прозу, афоризмы и, прежде всего, серию дневников под названием «Излучения» — я вступаю в общение с автором, который не был мыслителем в строгом смысле, но сумел предложить удивительную оптику, редко встречающуюся в нынешней литературе.
Видение глубины в поверхности, великого в малом, будь то песочные часы, сброшенная шкура змеи или какой-нибудь жук-скакун. Эффект стереоскопической прозы Юнгера хорошо описывается словом гештальт — в многообразии и пестроте явлений вам вдруг открывается целое, которое больше своих частей. Оно красиво, устойчиво, играет своими гранями, как кристалл. Участие в этом магическом действе и есть то самое удовольствие от чтения Юнгера, и оно не убывает со временем.
У нас на данный момент довольно неплохая ситуация с переводами Юнгера. Так, я очень удивился, когда попытался на Amazon’е найти на английском биографию Юнгера, работы о нем — я ждал выбора из нескольких книг, но оказалось, что на английский не переведены и некоторые основные книги самого Юнгера, вообще переводов всего несколько. Это, кстати, отдельная тема, рецепции в западном мире, но хотел спросить — каких переводов Юнгера на русский можно ждать, что планируется?
Достаточно привести два факта для сравнения. Осенью 2017 года вышел первый перевод, пожалуй, самого знаменитого эссе Эрнста Юнгер «Рабочий» (The Worker) на английский язык. Его перевели и откомментировали два молодых английских исследователя и выпустили небольшим тиражом в малоизвестном университетском издательстве Northwestern University Press.
Мой перевод «Рабочего» вышел в 2000 году в академическом петербургском издательстве «Наука», а потом еще раз там же вторым изданием. «Смена гештальта» — это шестнадцатая книга Эрнста Юнгера на русском языке! На мартовском симпозиуме Юнгеровского общества в монастыре Хайлигкройцталь я без ложной скромности говорил, что Россия фактически является второй страной после Франции по силе и значимости рецепции Эрнста Юнгера. Показательно, что после второй мировой войны французские оккупационные власти первыми без всяких условий сняли с него запрет на публикацию книг. В английской зоне оккупации запрет продолжал действовать. Об отношении к Юнгеру во Франции говорит и включение его произведений в «Библиотеку Плеяды», аналог советской серии «Библиотеки всемирной литературы». Меньше чем за три десятилетия книги Юнгера не только вошли в круг чтения разных поколений нашей страны, но и стали частью литературного процесса.
В своих симпатиях к Юнгеру мне недавно признался писатель Леонид Абрамович Юзефович: в разговоре я обратил внимание на то, что свой знаменитый документальный роман «Зимняя дорога» он начал цитатой из «Садов и дорог». Еще один пример: московский философ Виктор Павлович Визгин сравнивает дневники М.М. Пришвина с дневниками Э. Юнгера и даже аттестует нашего философствующего натуралиста-литератора как «православно христианизированного Эрнста Юнгера». — Вы правы: восприятие творчества и личности Юнгера в разных странах Европы в разные периоды — это тема для отдельного большого разговора. А мы пока будем тихо, но планомерно заниматься обогащением русской Юнгерианы — в перспективе выход второго, дополненного издания «Сердца искателя приключений. Фигуры и каприччо» и эссе «Waldgang» («Уход в лес»). Обе книги готовятся московским издательством Ad Marginem.

