Наталия Черных: Не сразу верь слову «боль»
8 июля, 2018
АВТОР: Александр Чанцев
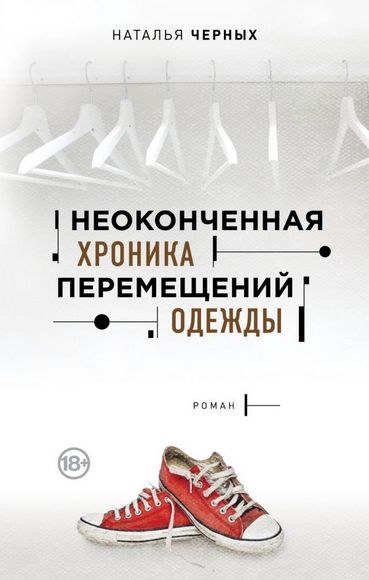
По поводу выхода нового романа Н. Черных рассказала о жизни советских хиппи, феминизме, А. Аристакисяне, постсоветских религиозных неофитах, «полувремени» 90-х и Е. Головине.
Александр Чанцев: Наталия, поздравляю с новой книгой. Как писался «Черкизон» (первоначальное название мне нравится больше) или «Неоконченная хроника перемещения одежды»? Как ты сама воспринимаешь книгу, с чем ее для себя ассоциируешь?
Наталия Черных: Мне сложно ассоциировать с чем-либо этот роман. Он есть, и пока мне ничего не напоминает. Если подумать, то это нечто вроде увеличенной дозы аналога обычного обезболивающего, перемена препарата.
Воспринимаю, возможно, как более счастливого ребенка в семье, которому старшие немного завидуют. Как видно из названия книги, хроники пишу давно, с конца 90-х. Сначала это были короткие эмоциональные записки о том, что было десять лет назад (конец 80-х). Вроде рассказа в «Новом мире».
Рваный, как бы скандирующий, текст — мне очень нравилось его писать. Это как чистые поленья в печке горят, потрескивают. Красиво и жутковато-забавно. Парцелляция.

Фото (здесь и далее): Игорь Стомахин
Знакомый поэт надменно выдал мнение, смотря на меня глубоко сверху, дело было в «Билингве»:
«Стихов твоих я не понимаю, а вот в прозе ты делаешь интересно».
Подумала в ответ почти матерно.
Затем начался второй период неофитства, уже взрослого неофитства. Стали появляться персонажи, сюжет и рассказы целиком. Сначала — персонажи, и конечно, героиня: слабое, замкнутое, упрямое существо с катастрофически высоким индексом выживаемости. Выдумывать сюжеты не нужно было, все находилось перед глазами. Персонажей полюбила и переживала за них, в судьбу прозы не верила ни на грамм.
Знакомая критикесса, авторитетно подняв большое лицо, порой говорила мне, не ведая, что пишу прозу:
«Это один Лермонтов умел: одновесно и прозу, и поэзию писать. А вы писать прозу не сможете, вы поэт».
А я тем временем партизанила и допартизанилась. Та же критикесса потом кричала на меня, что мол, ничего в не понимаю.
Мне очень везет на неформальных критиков, и совсем рядом живущих. Они меня не видят. Не то что не замечают, а не видят. Тем временем героиня открыла глаза и начала говорить.
Героиня меня измучила. Потому что вся проза растет из ее речи. Я порой ссорилась с ней, как с живым человеком. У этой героини в жизни немного инструментов: влюбчивость, доверчивость, умение мгновенно исчезать и умирать. То есть, все то, чего у меня в тридцать лет уже не было. Я интроверт, мне сложно представить что-то кроме норы.
К 2012 примерно уже готов был корпус .

Но представить, что повести будут изданы, я не могла. Коллеги, ценившие (или говорившие, что ценят) меня как поэта, прозой не интересовались. А я по ночам, наглотавшись анальгина (болела шея, проблемы еще не обнаружили), редактировала, дописывала и прочее.
Минорную героиню внезапно сменила крутая деваха, как в .
Идея этой повести подброшена была прозаиком Сергеем Соколовским, но рисунок сюжета был другой, и финал в его представлении выглядел более позитивно: мальчик остается с любовью на родине, потому что русский панк самый крутой на свете. Зато у меня получилась большая, веская, сложная проза «с душком», как отозвался потом Соколовский. Повести были и раньше («Партия для швейной машинки и бас-гитары» в «Приходских повестях»), но «Язве» повезло. Ее где-то даже отрецензировали.
Проза во мне шла параллельно стихам, и это был сильный наркотик. Нужно было либо повысить дозу, либо уйти ломаться. После нескольких публикаций отказаться трудно. Настораживала сама мысль, что нужно писать еще. Просто потому что прозаик. Типа про заек, а не про лис. То есть, работать, чтобы работать. Нет, это не для меня. Чтобы писать еще, нужна сверхзадача. А их очень мало в прозе. Либо зарабатываешь деньги, либо делаешь то, чего не делали другие. И только потом возникает вся эта чепуха: у меня тема такая-то, я в теме такой-то, это жанр, а это поджанр.
В этот период вокруг меня было не по-хорошему неспокойно, и вдобавок недавно вышла новая книга стихов, на которую были рецензии, но это мало что значило в общем раскладе для меня как для автора. Нужен был резкий и масштабный жест. И я села писать роман. Как и в описании приходской среды, ничего не нужно было придумывать. Но в романе речь идет о событиях тридцатилетней и двадцатилетней давности. Идея кочующего дневника возникла из рассказов ныне покойного поэта Сергея Жаворонкова, а героиня, несмотря на минорность, все же отличалась от мелкой сошки, при появлении которой уже хотелось спрятаться под стол. Выражение не совсем метафорическое. Это нашло отражение в .
Коллеги дружно крутили носами, если вдруг проговорилась, что пишу роман. Какой роман можно написать в наше время? Только постмодернистский. Ты постмодернист. Постмодернистов очень много теперь романы пишут. У тебя нет экзотического материала, чтобы роман прозвучал.
Все так, но у меня была сверхзадача, на которой вышли и «Неоконченные хроники перемещений одежды». Я описываю очень узкий круг людей, в ограниченный промежуток времени — примерно середина девяностых, — но сразу с двух точек зрения. Это страстная привязанность и страстное же неприятие. Через эту страсть почти без труда выхожу к большим вопросам девяностых: резкая перемена образа жизни, новые нормы поведения, новый язык.
«Слабые, сильные» вошли в лонг «Большой книги». Мои знакомые зашептались. Один невесть почему сказал, что премию мне дадут, хотя явно, что нет. Другой сказал, что на Западе такой роман будет неинтересен, что там много своих наркоманов. У него астигматизм литературный. Но рецензию написал. Глупую, правильную рецензию, и благодарность ему за это. Кстати, я не наркоманка и наркоманкой не была.

После «Слабых, сильных» возникло чувство, что меня загнали в угол и нужно идти сдаваться в полицию: нравов наверно. В какую-то литературную полицию. И потому села писать новый роман, уже линейный, без временных пластов, стоящих под углом один к другому. Героиня романа Эльвира, Илька, как называет ее отец — моя ровесница, сейчас ей почти пятьдесят. Она маленький танк. Но это очень разборчивый танк. Илька совершает то, что можно назвать социальным самоубийством. Она отказывается от выгодного предложения ради прогулки по Черкизону. Она всю жизнь хотела быть художником одежды и любила одежду. А когда появилась возможность работать по специальности, она отказалась, потому что ей почудилось, что она попадет в новое рабство.
Ты была в Системе. Что было — и(ли) есть — для тебя главное в хипповской тусовке?
В конце 80-х ощущала себя точкой, которая излучает тревожные вибрации. Семьи больше нет — и никогда не будет. Берегите друг друга. Будьте друг другу семьей. Некоторое время даже крутилась мысль, что моя семья состоит из девяти человек. Когда найду их всех, я умру. Иногда вспоминаю об этом, как сказку.
Смотрите, вот картинки. 1988, недалеко от нас. Это не 1978, а там Суворовский бульвар и кафе «Аромат», который не помню. А именно 1988, ДК, небольшой полуразрешенный фестиваль рок-команд. Я видела, как там говорят и ведут себя люди. На них рубахи из военторга, ковбойки, ленты на волосах или хвосты. На задницах либо левиса, либо ренглера. В углах коридоров стоят банки с окурками, бутылки, по коридору носятся словечки: «Не пустили? Дескать, больше не хоти?». Я так и не освоила их тогдашнего языка, а он был терпкий, мягкий и довольно веселый. У меня был знакомый художник. Он, кажется, уехал в 1989. Ему было тогда лет тридцать пять. Я приезжала к нему в мастерскую и читала стихи. В ответ он читал свои. В девяностых со мной такого не происходило.
Вторая картинка — спустя шесть лет, 1994. Уже не ДК, а клуб. Это важно. Наив ушел, до цинизма не доросли. На тусовщиках сравнительно дорогие косухи, от них отвратительно пахнет пивом. От старых волосатых чаще пахло портвейном. Они больше походили на змей. Тусовщики девяностых больше походили на свиней.
Умершая в 1989 Алина, героиня «Слабых, сильных» — примерно 1965 года рождения. Это был рискованный опыт, я могла солгать в характере. Героиня «Язвы» примерно 1973 года рождения, с ней мне было проще, так как вокруг меня было больше людей этого возраста и их внутренние копи были доступнее. Алина намного тоньше и злее, она мизантроп и жертвенный человек одновременно. Но у меня такое чувство, что в характере Алины я не солгала. И пока никто не указал, что ложь была. Дело не в том, чтобы изобразить похоже (якобы правдиво), дело в некогда жившем человеке, чья душа намного лучше помнит все, что было, чем кто-либо из живых. Алина долго была со мной после того, как написала роман.
Мне нравится само слово — «система». Оно одновременно и точное, и неопределенное. Всемирная сеть дает массу информации по тому, как и кто тусовался в конце семидесятых в Москве и Петербурге. Порой это свободный смелый рассказ. Когда что-то такое попадается, обязательно читаю. Но один недостаток. Люди настолько хорошо знали друг друга и были друг другу близки, что в рассказе личность уже не имеет отличительных черт. А мне было важно, что люди «системы» — это не «система». Такая вот демагогия. Но тут, думаю, она уместна.
Старые волосатые, как я их называла, были худы от эфедрина и опиума, а кроме бесконечных понтов у каждого было какое-то умение в руках. Среди моих тогдашних знакомых — реставратор (более сорока лет работает по специальности), известный журналист, женщина-часовщик, художник, мастер вышивки, чьи работы покупают для того, чтобы прикрепить к вечернему платью дамы, настоящий штурман баржи, священники. О музыкантах не говорю, это был особый мир, никакой работы они не боялись: хоть грузчик, хоть торговец.
Кстати, волосатый мир, по понятным причинам: негативное отношение к власти и употребление-хранение веществ карались — тесно порой переплетался с уголовным. Все свои статьи знали. В девяностых эта грань поплыла. Да и просто вдруг появились другие люди. Этих я помню больше и лучше, но первые и самые теплые впечатления системы связаны именно со старыми волосатыми.
О моем самочувствии в системе лучше всех говорит фраза:
— Тяжело тебе, мать, хипповать.
Музыкант, который это сказал, меня знал хорошо. Возможно, я была «человеком системы» — автостоп, вписки, в том числе — и у себя дома, аск, случайные подработки-заработки торговлей вразнос. Но я никогда не была «в системе». А описаний этого явления больше всего сделали те, кто «был в системе». Говорить: я не люблю толпу — считаю, что пошло. Толпу никто никогда не любил, она всегда одна.

«Неоконченная хроника» просто наполнена моими знакомыми. Не говорю — друзьями, одной мне проще было выживать. Но почти все, как подтвердил один закадровый участник событий, узнаваемы.
Где они все сейчас, многие ли выжили? И есть ли сейчас Система?
Старых волосатых, или олдового пипла, как говорили тогда, живет еще много. Имен называть не стану, это будет выглядеть нелепо. 1 июня под большой сосной в Царицыно на празднике начала лета они держатся особняком (1 июня, в День защиты детей, традиционно происходит сбор хиппи, «детей цветов». — А.Ч.), у них свое место и свой тип отношений, молодым (или относительно молодым) тусовщикам не очень понятный. Многие с конца восьмидесятых внешне не сильно изменились. Волосатые имеют свойство консервироваться во времени. Мне нравится как художнику, что со временем внешность мужчин приобретает нежность и внушительность, а женщины становятся более готичными. Это действительно красивые люди.
У каждого был (и у многих остается) свой драйв. Некоторые продолжают считать себя людьми радуги. Они почти не употребляют веществ, даже табака и алкоголя, очень много путешествуют, имеют в руках какое-нибудь редкое ремесло и вполне такой жизнью счастливы. Некоторые остаются фанатами веществ и при этом за тридцать лет не сторчались, их внешность не выглядит потрепанной. Есть исключения, но и они выглядят эстетично.
Ныне покойный знакомый с демоническим именем (1955 года рождения), для себя переводивший тексты песен, стихотворения и записки Моррисона, и очень гордившийся этим, в 1994 сказал мне: «У меня двадцать второй сезон». Я оценила его выносливость. То есть, первый сезон приема вещества состоялся в 1972 году, ему было семнадцать. В 2015 он выглядел почти как в 1995, а погиб в 2016, не от болезни. Его сбил автомобиль. Кажется, оба — водитель и знакомый — имели в себе вещества, только разные.
А вот мои ровеснички, особенно те, кто младше, — другое дело. Среди знакомых по середине девяностых многие располнели, потеряли форму. Вспоминается болезненно точное: мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Однако в моих ровесничках есть драма. Если я ее придумываю, то вымысел не особенно далек от правды, хотя именно такой вариант раздражает больше чистого вымысла. Тяга к комфорту и тяга к геройству дали щель, которую ничем не заполнить и не убрать. Так что вариант судьбы был один: выстроить себя (не люблю слово выстроить, но здесь оно уместно) в удобной социальной схеме (офис, зарплата) и при этом на кухне, выпив пива, слушать «Гражданскую оборону». Для меня этот вариант неприемлем, я дорого заплатила за музыку.
О тех, кто моложе — разговор отдельный, им полагается внушительная скидка. В начале девяностых неделя шла за год, так что память вымывалась быстрее жидкого мыла. Они мало что видели из волосатого мира и мало что помнят о том времени, как бы это не утверждали. Я сама помню уже фрагментами. Олда в основном человеколюбива и любознательна, и с удовольствием знакомилась с молодежью. Но атмосферы уже не было. Она возникала редко и только в герметичной обстановке.
Для меня «системой» была первая, несколько человек, семья, так сказать. В конце восьмидесятых уже окреп миф. Летом 1989 большая девочка, почти двадцать, решила (сознательно!) затусоваться, как ставят опасную прививку. Если изобразить мое тогдашнее настроение одной фразой, девизом, то получится: «Я пришла на Гоголя умереть». Не умерла и некоторое время была этим сильно расстроена. А в то лето затусовалась, отдавая отчет, что системы уже нет, и я имею дело с моргом того, что было когда-то. Но на счастье колоритные персонажи в колоритной среде еще встречались.
В самом начале девяностых уже началась торговля: прикидами (одеждой), феньками, музыкой, образом жизни. Некоторые из олды поняли, что можно раскрутить на своем образе жизни бизнес и кое-чего добились. Как говорили тогда, флаг им в руки. Хотя бы таким образом уникальная эстетика (сильно искаженная требованиями небольшого рынка) пошла в массы.
В 2013 году была на презентации одного романа, написанного типа бывшим волосатым, который сейчас ведет беспечную жизнь у французской жены. Вечер проходил в «Китайском Летчике» и сопровождался показом волосатых мод от известного в узких кругах деятеля. Ничего более отвратительного не видела. Но с точки зрения наглядности — хотя бы так. Роман был смешной и наивный.
Скажу больше, в девяностых в принципе не могло быть системы. Можно даже создать такой индикатор. Если человек эмоционально и серьезно говорит о системе, о хиппи, и ему сейчас в районе сорока, он системы не видел. Он видел только людей, и то хорошо, если олду. Система, на мой глаз, была довольно жестким, почти лагерным (привет СССР) образованием и воспитывала(!) равнодушие к собственности. По этой части советские дети дали много очков вперед хиппующим марксистам Калифорнии, у наших все это было в крови. Но такое отношение и породило мифы о «крысах», то есть ворующих у своих. Это несомненно было, но я лично сталкивалась раза два. А в общем, да, все советские хиппи — насильники и воры, хахаха. Но я не видела ни одного советского хиппи. Они называли себя «волосатые».
То, что вижу 1 июня в Царицыно сейчас — этнический праздник, и это мне льстит. Мне грезилась семья, а теперь — целый народ, который можно описать как народ. Но ни к волосатым, ни к системе это уже не имеет отношения. Другое отношение к веществам, сексу, вообще к жизни. Совпадают только отдельные элементы эстетики.
Для меня «Неоконченная хроника перемещений одежды» совсем не о системе. Скорее, о творческой среде, довольно жидковатой, но питательной.
На презентации твоей книги все вместе мы вспоминали, есть ли какая-нибудь основополагающая книга, свидетельство о жизни русских хиппи, сразу ничего не нашли, только потом назвали фильм А. Аристакисяна «Место на Земле» и роман «Пудинг из промокашки. Хиппи как они есть» Мата Хари. В ее показавшейся мне в целом довольно «лайтовой» книге, кстати, сильнее всего задело меня как раз два места — о пребывании в сумасшедшем доме (отчасти как результат жизни в Системе) и ее встреча со старыми «коллегами» в Царицыно после того, как вроде бы насовсем-совсем «завязала» со всеми волосатыми… Почему к фильму Аристакисяна, присутствующего, кстати, персонажем и в твоем романе, ты относишься негативно? И почему не появилось на русском ничего о хиппи, ведь времени прошло более чем достаточно даже для отстраненного и мемуарного взгляда, а о советском детстве или бурных 90-х сейчас пишут много?
Отвечу в обратном порядке. Артура Аристакисяна как мою личную симпатию (и в творчестве тоже) оставлю на десерт. Он требует особенного внимания.
Женщины волосатых в основном интеллектуалки. Мария Ремизова, она же Мата Хари — филолог и даже сейчас сумасшедше красивая герла. Анна Герасимова, она же Умка — тоже филолог, переводчик с нескольких языков, голова-машина и музыкант. Другой вопрос, что из всего этого сокровища ничего великого не возникло, да и возникнуть не могло, потому что в самом замысле — «система» — заложена была локальность. Как локальные явления все попытки — «Пудинг из промокашки», например, или «Умка и Броневичок» — своей цели достигли, и лучшего ничего придумать невозможно было. Молодой народ тусит, читает, балдеет, и всем хорошо. И есть над чем подумать-погрустить.
Есть гораздо более масштабные и интересные вещи. В 1987 году вышел сборник рассказов рокера Владимира Рекшана «Третий закон Ньютона», а в «Неве» за 1988 год (кажется, третий номер) был опубликован его роман «Кайф», отчасти автобиографический: история легендарной группы «Санкт-Петербург». «Кайф» даже вне среды был событием литературы. Московские полуподпольные лаборатории кипели идеями и носились с так называемой «новой литературой», как с только что протухшим яйцом. Петербург в лице Рекшана представил полномасштабный роман, жесткий, провокационный по стилю, с героями-имморалистами. Таких романов на русском вообще немного.
Мемуарно-художественных произведений о волосатых, наоборот, много, их пишут охотно, и охотно издают. Например, роман «СВА» филолога-искусствоведа Валерия Байдина. Но повторяю, все это частности. Если говорить о том, что стоит внимания, то это своеобразная периодика. Например, журнал «Забриски Райдер», с которым, кстати, сотрудничала некоторое время в девяностых. Мне нравилась смелость и безоглядность Маргариты Пушкиной, да и ее стихи. Вокруг нее, насколько могла наблюдать, всегда была именно «волосатая» атмосфера. И если уж говорить о прозе, отображающей волосатый мир, то это, несомненно, к Маргарите Пушкиной. Ее фантазийно-драматические опусы, вероятно, имеют много недостатков, но они «родные».
Олда, насколько помню, любила писать нечто вроде трактатов. Такое произведение основано было на реальных событиях и характерах, но благодаря волосатой линзе — или точке зрения — превращалось в забавного монстра. Не то роман, не то бесконечный монолог, не то действительно имитация средневекового трактата, не то пришелец надиктовал. Из наиболее читаемых зарубежных произведений назову романы Гессе, а так же Баха, «Чайку по имени Джонатан Ливингстон». Почти все, с кем довелось говорить о чтении и литературе, называли с теплой симпатией «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Это была культовая книга.
С так называемой «новой прозой» (например, Валерии Нарбиковой и Виктора Ерофеева) я познакомилась позже, чем услышала о ныне утраченной «Китайской кухне» Сергея Жаворонкова (он же Слон) и об «Аттракционах» Аркадия Славоросова (он же Гуру). Все это явления скорее этнические, но без них картину не восстановить, и мне они кажутся гораздо более важными, чем многое другое. можно найти в сети.

Сайты «Периферия» и «Кастоправда» вообще заслуживают особенного внимания при изучении волосатого вопроса, так как делают их люди этой самой волосатой темы. А кроме того Андрей Полонский и Сергей Ташевский — создатели журнала «Твердый Знак», с которым молодняк 90-х носился как с торбой, потому что там были опубликованы переводы текстов Леннона, Йоко Оно, Моррисона и других звезд. До этих публикаций доступа к переводам у многих не было. Из публикаций 90-х еще помню воспоминания художника Миши Красноштана (называвшего себя приятелем Анатолия Зверева), но это были мемуары о путешествии по Святой Земле.
Теперь об Артуре Аристакисяне и его университете хиппи. Ты уловил негативные нотки в моем отзыве о «Месте на земле», это полнометражка, которая снималась долго и так, что важен был не менее результата процесс съемки. Группа кочевала с места на место, с Воротниковского на Рижскую, затем на Маяковскую. Я не была плотно с этим процессом связана, но как-то принесла сумку одежды «для хиппи». Своей, которую некогда любовно чинила и украшала. Не жалко было. Мне в 1994 уже все равно было, хиппи или нет.
Негативность объяснить очень просто. Надеялась, что Артур снимет нечто вроде «Забриски Пойнт», а он снял не Антониони, а Аристакисяна. Ну как же я могла с этим примириться, ведь я ждала Антониони!
Мне кажется, Артур как оператор и рассказчик несомненно более одарен, чем режиссер (хотя у него есть именно режиссерский глаз). Его рассказы о будущей картине, о любви сумасшедшей женщины к волосатому гуру, на лекциях университета хиппи были намного интереснее, чем картина. Но в «Месте на земле» все же есть та болезненность, которую я помню и знаю.
Фильм вышел в эпоху, когда ни «Плюмбум, или Опасная игра» Абдрашитова, «Ворошиловский стрелок» Говорухина, «Меня зовут Арлекино» Рыбарева уже не звучали. Были еще в восьмидесятых «Маленькая Вера» Пичула, «Воскресенье, половина седьмого» Зобина и всякая документалка: «Легко ли быть молодым» Наумова и Суркова, «Рок» Учителя. «Ассу» Соловьева намеренно не называю, это скорее музыкальный фильм. А многие из названных картин я смотрела до боли в заднице, так как сидения в кинотеатрах часто были деревянные.
Аристакисян снял фильм стильный, харАктерный, и в целом честный. Другое дело, что кино вообще обманчиво. И мне сложно представить фильм с героями типа Гуру. Хотя есть «Исповедь. Хроника отчуждения» Гаврилова, в котором возникают кадры подлинной жизни волосатых. И Гуру там есть, на фоне родительской библиотеки. Однако даже при самом точном таланте режиссера искажения будут, а уж тем более — в художественном фильме.
И вот еще какой момент. В Артуре мне всегда виделось намного больше некоего «волосатого», хиппового элемента, чем в некоторых заправских тусовщиках. Часто это были просто открытые и беззащитные в своей открытости люди, но не волосатые.
«Университет хиппи» Аристакисяна был вполне волосатым явлением. Университет, которого явно нет. Но есть лекции, профессора слушатели, взаимоотношения, свойственные именно вузу, и прочее. Просуществовал он довольно долго, пока Артуру было интересно. Можно сострить в стиле этого вуза, что мол, он предвосхитил многие современные вузы.
В «Неоконченной хронике» есть что-то от названных выше фильмов. Мне думается, в середине девяностых ни такой книги, ни фильма не могло бы возникнуть. А сейчас получилось, и это, считаю, уступка, данная временем.
Помню, как в школе ездил покупать «Забриски Райдер» — и помню, что если первые номера были восторгом нового, то последние номера его были уже скорее просто «про рок»… Книга же Рекшана все же больше о поколении рокеров из питерских котельных, а не о хиппи. Вторая (я не ранжирую, просто перечисляю) «контркультурная» (по тем временам) составляющая твоего романа — воцерковленные или стремящиеся к этому люди. Как проходила их жизнь тогда?
Начало всегда обладает тем, чего нет у продолжения, пусть оно и в сотни раз лучше. Это как с альбомами музыкальных групп. Записали первый — и по всему миру сшибло крыши от энергетического потока. А второй, пусть тоньше и музыкальнее, посчитали самоповтором. Критики и потребители тут первые враги, хаха.
Первые номера «Забриски Райдера», на мой глаз, были еще угловатые и немного даже наивные. Но в них была чистая радость и эмоциональная полнота. А потом стали появляться серьезные материалы. Помню, как разносила этот журнал в электричке и сама, сев, зачиталась статьей об опиумных войнах в Китае.
Жизнь верующих и уверовавших проходила очень даже бодро и интересно. Были те, кто еще до тысячелетия и активного открытия храмов молились, постились и причащались, и в то же время были «волосатыми». А были неофиты, их было очень много, и это были совершенно другие люди.
Быть «волосатым» — не значит исповедовать и претворять в жизнь свободу половых отношений, и употреблять наркотики. Все это имеет место быть, но является личным делом человека. Как и религия. Многие мои знакомые, считавшие себя духовными чадами, продолжали играть рок-музыку и вести вполне волосатую жизнь: сленг, вписки, автостоп, даже аск.
Здесь для человека религиозного неудобно то, что религия стоит в одном ряду с сексом и веществами. Если вспомнить Библию, то в Ветхом Завете найдем довольно любопытные моменты. Как в Торе, так и у пророков, у Иезекииля например.
Во время прохождения пустыни евреи, народ молодой и истово религиозный, были непобедимы, хотя у них не было ни обученной армии, ни особого оружия. У них были личные, даже интимные, отношения с Богом, их Господом. Мадианитяне это заметили. И поняли, что нужно предложить евреям другие «интимные отношения». С мадиамскими женщинами например. Этот план имел успех, и евреи стали терпеть поражение за поражением. Пророк Иезекииль без ханжества обличает блуд евреев с другими богами. Вино, как некий символ, в Библии тоже неоднократно присутствует, начиная от чаши в руке Господней и заканчивая вином греха и вином ярости. Это очень важные и высокие моменты — вера, секс и прием вещества. Человек, чтобы увидеть нечто кроме себя самого, должен приложить усилия и опереться на нечто материальное. Религия, секс и вещества этому помогают. Религия, на мой глаз, предлагает меньше материального, но более основательное.
Хиппи шестидесятых именно к этому и вели: секс, религия и образ жизни — личное дело, это ниши, где общественно-государственным отношениям места нет. Они предлагали интим с человеком вместо интима с транснациональной компанией и курение марихуаны или прием вытяжки из пшеничной спорыньи, ЛСД, вместо разъедающих нейроны антидепрессантов. То есть, хватались за остатки гуманизма в человеке и пытались его реанимировать. Ближе к человеку и дальше от бизнеса. Это было наивно, обречено на провал, но красиво. Мол, мыть одежду в море полезнее, чем стирать ее в машинке порошком «Белая роза». Хиппи все немного юродствовали, и потому их би-ины с фрилавом и прочим больше походили на спонтанно возникшее театральное действо, что многие их тех людей и подчеркивали. К 1967 все это потускнело, и нужно было менять одежду, а было уже поздно, и это была драма.
В 1988 многие мои знакомые, даже не знавшие друг друга, направились в Оптину пустынь и некоторые там довольно долго прожили. Волосатые просто влюбились в Оптину, как некогда олда любила Псковские Печоры. Хотя Псковские Печоры тоже были местом волосатого паломничества, к отцу Иоанну Крестьянкину. Советско-волосатое православие заслуживает научного труда, это было особое течение.
В нулевые с ужасом в известном клерикально-ориентированных органе печати наткнулась на термин «обретенное поколение». Испытала шок. И сейчас от него не очень оправилась. Даже в нулевых почти все мои знакомые, которых хотелось видеть и кто звонил, кто приходил в съемную, где жила, или к кому я могла приехать без звонка, были только волосатые или волосатившие. Литераторы, музыканты. Из этой глубины сказки про «обретенное поколение» смотрелись по меньшей мере нелепо. Да какое обретенное, когда именно эти люди до всякого «обретения» несли в себе то подлинно русское, которое меня коснулось в далеком детстве. Именно у них в обиходной речи встречались церковнославянизмы, не без юмора: «лепота», «благодать», «матушка». Конечно, наряду с англоязычным сленгом, зато естественно. А про манеру одеваться и не говорю — порой просто кадры из «Андрея Рублева». Этих людей не нужно было обретать, они сами обретали тех, кто не уверовал. Пусть это были неофиты, склонные к компромиссу во всех областях жизни, но это были подлинные люди. А мне сообщают в газете о каком-то поколении. Примерно то же отношение у меня и к некоторым произведениям современной прозы, затрагивающей эту тему. Обретенное — это не про меня и не про тех, с кем делилась хлебом и переживала самые разные трудности, порой критической массы.
Однако была разница между уверовавшими в советское время и неофитами. У первых было больше сомнений в клерикально-обрядовой области, они любили пофилософствовать, найти новый, на их взгляд, теологумен, вообще были церковно-недоверчивы. Но резких колебаний от веры к охлаждению я не наблюдала. Один мой знакомый, с немецкими корнями, то и дело оказывался в окружении католиков, его просто манило католичество. Но он остался в православии, причем считал, что ему было уверение от Бога. Чему я верю, потому что на мой глаз этот знакомый — мистик, и ему были видения. «Был в юности знакомец у меня/ имевший дар общенья со вселенной» (Эдгар По).
А неофиты охотно успокаивали себя тем, что «Господь у меня в душе». В их отношениях с религией четко прослеживались две фазы.
Первую можно выразить примерно так:
«Я отказываюсь ото всего бывшего безумия: молиться за Джанис Джоплин, слушать рок, употреблять наркотики, ходить автостопом и трахаться только потому, что это лучший выход из ситуации».
Во время этой фазы, как правило, женились-выходили-замуж, венчались и рожали. Вскоре наступала вторая фаза: «Бог у меня в душе». А обрядовая сторона, и с ней многое другое, уходили в тень. Начиналась эпопея обустройства в жизни. Причем вторая фаза могла выражаться и в ревностном соблюдении обряда, при внезапном внутреннем равнодушии к вере, в котором себе не очень приятно признаваться. Пройти между двумя огнями мало кто смог, но я таких людей знаю и люблю. У них очень трудные, даже до нелепости, судьбы.
Судьба мужчины выглядела примерно так: принял крещение, пару лет, в лучшем случае, парил на крыльях, даже вошел в церковную структуру. А потом ушла радость. Жена потускнела или остервенела, детей кормить нечем, Бог молчит. Выходили из тупика в основном по двум дорогам. Либо начинали заново: бизнес, политика, новая семья. Либо (у наиболее одаренных, тонких и честных) начиналось медленное умирание. Женщинам было одновременно и проще, и сложнее. Они влюблялись в духовного отца, духовной же, конечно, любовью и превращались в полезных как рабочая сила неприкаянных птиц. Либо остервенело же находили кормильца своим детям и мужа себе. Порой углы сглаживались тем, что муж был менее воцерковлен. Священники, из опытных, насколько мне известно (у меня жило много неприкаянных птиц) не благословляли женщин уезжать из родного города и покидать семью. Судьбы семей, как и судьбы людей, складывались по двум основным сценариям: либо распадались, либо, пережив невозможное, оставались. Я знаю семьи, на которых лежит как бы светлая печать. Что бы ни было, люди остаются вместе, и это самые нежные и надежные друзья.
Мне можно попенять на нелюбовь к братьям и сестрам, выраженную в резкости, в отсутствии сочувствия матерям-одиночкам, и это будет полезно. Однако оправдываться мне не нужно. Мне всегда больше везло на исподнее людей, чем на лица, и со временем я научилась вывозить и смывать негатив.
«Неоконченная хроника» показывает симпатичных неофитов: верующих, способных оставить дела ради друзей. Это прежде всего Анна, затем Сема и Мартышка. Никита и Вилли, люди Ильке очень близкие и дорогие, относятся к неофитству скорее с симпатией, чем с презрением, хотя все же нейтрально. Отношения героини с верующей матерью на самом деле очень простые. Мать прежде всего неопытна как мать и совсем неопытна как духовный наставник, но и она, и дочь одного духа, и потому последней драмы разрыва семьи не происходит. Илька как дочь идет на уступки, даже во вред себе, а мать все же заботится о дочери в меру своего понимания и сил.
Человеку, не прошедшему обработку полным безразличием к себе, такие персонажи могут показаться эгоистами. Однако Анна далеко не эгоистка, она действительно любит всех людей одинаково, и очень любит, во всю силу сердца, хотя отец Феодор — исключение, это земной бог, а проще — младостарец. Однако Илька, наблюдая за Анной, становится к ней снисходительнее, она уже не раздражается на перманентно влюбленную подругу.
«Советско-волосатое православие заслуживает научного труда» — действительно, было бы безумно интересно. Пока же такового нет(?) я рискну повториться — какие художественные (или не очень) книги ты назвала бы на тему прихода к вере в это и более позднее время? Боюсь, у большинства в основном на слуху книги М. Кучерской и Г. Шевкунова (митрополита Тихона) — и кстати, по тому, как они яростно обсуждались, надо понимать, что не только тема остра и важна, но и недостаток свидетельств на эту тему ощущается многими…
У этой темы есть своя судьба, она неприглядная и косая. Извилистая, очень сложная. Попробуем хотя бы найти точки, с которых можно было рассмотреть ее. Первая — господствующее мнение, сформированное почти полвека назад. Сейчас оно сильно потеснилось, но вряд ли скоро исчезнет. Это мнение можно так озвучить: молодежные субкультуры обречены на исчезновение, а их адептам приходится взрослеть. Если они не взрослеют, превращаются в младенцев-стариков, ни к чему серьезному не способных.
Основной упор идет на словосочетание «молодежные субкультуры». К ним можно отнести и постсоветское увлечение религией. Как будто это словосочетание что-то до конца объясняет или имеет некую эстетическую ценность. Культура вбирает в себя опыт субкультур как пылесос. В мировой философии есть Сократ, Платон и Аристотель. А были стоики, киники, и, в свою очередь, каждая ветка имела подвиды. Так что выражение «молодежные субкультуры» звучит примерно так же, как «кто хиппует, тот поймет». Всерьез все, что связано с молодежными субкультурами, в искусстве последних примерно тридцати лет не воспринималось. Беру этот отрезок потому, что это доступное для меня время наблюдения. Мой личный творческий опыт только травматичен, позитива до последнего времени не было. И то — позитив пришел почти случайно, откуда не ожидала.
Вторая точка — нежелание самих авторов эту тему развивать. Конечно, система, тем более наркотики в начале девяностых, было дело жестокое и травматичное, подходящее под статью. И, конечно, автору системную кутерьму хотелось забыть как страшный сон. Егор Радов, у которого в руках был суперколоритный материал, предпочитал описывать некий придуманный мир, параллельную реальность, чем фантасмагории окружающего. А мне именно они и интересны были. Параллельная реальность, нечто «непонятно откуда приходящее», манила, она казалась честнее глаголемых биографических спекуляций. Но время все расставило на места. Из литературных опытов восьмидесятых и девяностых можно назвать нескольких ценных поэтов и прозаиков, но это именно опыты. Аркадий Славоросов, Анатолий Головатенко, Алексей Бекетов — поэты. Из прозы наравне с Радовым не знаю, кого и назвать.
О церковном опыте девяностых и нулевых я ничего в принципе художественного и документального не читаю. Представьте водовоза, которому читают лекции о составе воды или инсультного больного, которому объясняют, как самостоятельно сделать ремонт в его квартире. Теоретически нужно читать все это, нужно заставить себя понять, кто коллеги, но зачем? В конце девяностых у меня было сюжетов и записок на полноценный роман, но не было ни связей, ни возможности писать и выйти к публикации.
Книга митрополита Тихона, с которой мне пришлось столкнуться по редакторско-составительскому делу, впечатление произвела. Во-первых, я косвенно с ним была знакома. Моя беременная первым ребенком подруга ходила в самом начале девяностых на Псково-Печерском подворье (тогда такое было), трудилась там и всячески укреплялась, в том числе пищей земной. Во-вторых, книга построена честно, умно и очень тонко. Ничего слишком, никаких лишних усилий: ни в мемуаристике, ни в художественных очерках; вещи в ней показаны ясно и четко. В-третьих, мое видение происходящего тогда совпадало с видением автора. В «Несвятых святых» много утешения, в самом церковном смысле, и странно было бы, если бы она не вызвала бури в мире печати и не имела бы миллионных тиражей.
Голод на произведения, в которых отражался бы путь к Богу и вере, сейчас конечно есть, и дискуссии есть, и будут. И книги есть, одно издательство с другим соревновалось, книг много, фурами возить можно, и авторы есть, каждый со своей референтной группой. Но смысла во всем этом нет, одни разговоры ради разговоров.
«Неоконченная хроника» касается только двух-трех лет, оказавшихся переломными в жизни героини. Это пресловутая середина девяностых, полувремя полумер и полусудеб. У меня есть интуитивное чувство, что именно в 1994—1997 что-то очень пошло не так, и стала возможна новая война, начиная, скажем, с Белграда. Какая-то дырка безразличия человека к человеку образовалась, и это не героическая «энтропия растет», там драма, а здесь мелкий обман, после которого и умереть-то стыдно. Психологическое насилие как стратегия бизнеса, что ли. Героиня «Неоконченной хроники» сталкивается с таким насилием. Вера ее держит, верующие — не особенно.

Вот что интересно. В начале нулевых дискуссии и их участники были сравнительно молоды, полны надежд, задора и куража. Проклятый и благородный старый мир еще не разложился, он еще подпитывал людей. Именно он давал фон и новой поэзии (Союз молодых литераторов «Вавилон», и другие опыты), и новой прозе, и вообще совриску (современному искусству). К концу нулевых здоровое варварское плебейство заняло лидирующие позиции. Стало возможно то, о чем я, например, могла только мечтать: публикации, выступления, фестивали, но мне всего этого уже не нужно было. Фон ушел, боль превратилась в инфантилизм и до сих пор тусит (в девяностых говорили: тусуется), уже в «Китайском летчике». Во всем пассаже важно то, что плебейство здорово, а старый мир благороден. Это объем, система координат, а не желание кого-то уничтожить, ведь я сама, так сказать, из Вавилона-1992 вышла.
Есть голод, нет нужного читателя. Есть потребители книг, для них нужно писать умненько, красивенько и по шерсти. Против — ни-ни. Или в меру глубоко писать, — чтобы не захлебнулись. Писать, что тебе дается, — не смей, иначе «потреблядь» напишет отрицательный отзыв в соцсети, а младостарец накатает телегу в издательский совет. Возможно, читатель есть, но он еще вне зоны доступности. Даже если случилось бы чудо и возникло бы небольшое, чистое, умное, хорошо распиаренное произведение, его бы измазали дерьмом непонимания и засунули бы в комменты фб.
Сейчас требуется выполнять условный план по культуре. Нужна книга — найдем. Нужен скандал в соцсетях — создадим. Нужно жюри — наберем. И все дико, торопливо, нервно делается. Потому что деньги на пятки наступают, нужно отрабатывать их. Говорю как ридер и бывший ридер нескольких премий, пусть и не Нацбеста или «Большой книги».
Кстати, «Слабым, сильным», считаю, отчасти повезло. На фоне Красной Площади, «Лицея» и прочего сервека (Музея Серебряного века, где проходят литературные мероприятия). В нынешней атмосфере автору нужен респиратор, а он приглушает звуки. То есть художественных явлений в прозе и поэзии, соответствующих высокому уровню в данной теме в моем представлении сейчас нет — и не предвидится. А авторов можно любить-побить сколько угодно, нужно же кого-то читать нового.
Постскриптум к вопросу. Тема смерти культуры и существования автора в постмортем культуры — уже попс, почти народная примета, а отчасти это хорошо. Если в нулевых еще глазки интеллектуала заволакивались сладким туманом при слове «смерть автора», то теперь, на мой глаз, так же происходит при слове «смерть культуры». А куда она денется без нас. Да и без меня тоже. И наша беседа — тому подтверждение. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ



Кафе Аромат на гоголевском бульваре было местом силы! yeah