От редакции
Роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» состоит из двух книг. Первая из них - «Чертова яма» (о жизни в одном из резервных сибирских полков) – была в момент написания текста Олега Давыдова удостоена премии «Триумф». Вторая - «Плацдарм» (действие разворачивается на Днепре, где в одном из военных эпизодов гибнут некоторые из героев книги первой) – была выдвинута на соискание премии Букера. 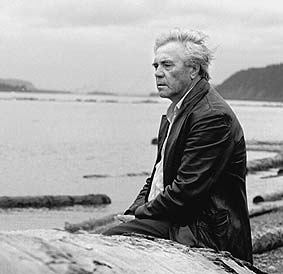 Премию эту «Плацдарм», кажется, так и не получил. Ну, ничего: теперь Астафьев награжден посмертно премией Солженицына. Наталья Дмитриевна Солженицына сказала, что ее муж всегда хотел дать премию своего имени Астафьеву. Почему? Да потому что Астафьев сумел написать всю правду. В частности – и о войне. В преддверии Дня Победы читателям Перемен, возможно, будет интересно познакомиться с этой правдой о войне. Тем более, что есть еще один повод вспомнить о творчестве этого писателя: 1 мая - день рождения Виктора Астафьева. А чтобы уж окончательно заинтересовать и подготовить читателя, приведем еще один факт: за статью «Нутро» Олег Давыдов получил от Астафьева высокое звание еврея.
Премию эту «Плацдарм», кажется, так и не получил. Ну, ничего: теперь Астафьев награжден посмертно премией Солженицына. Наталья Дмитриевна Солженицына сказала, что ее муж всегда хотел дать премию своего имени Астафьеву. Почему? Да потому что Астафьев сумел написать всю правду. В частности – и о войне. В преддверии Дня Победы читателям Перемен, возможно, будет интересно познакомиться с этой правдой о войне. Тем более, что есть еще один повод вспомнить о творчестве этого писателя: 1 мая - день рождения Виктора Астафьева. А чтобы уж окончательно заинтересовать и подготовить читателя, приведем еще один факт: за статью «Нутро» Олег Давыдов получил от Астафьева высокое звание еврея.
Фекалиада
Первое конкретное событие в романе после приезда новобранцев в полк – назначение одного из них (Шестакова) в наряд – сопровождается строгим наказом: «Не спать, не спалить карантин, следить, чтоб новобранцы ходили по нужде подальше в лес, бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам»… Но несмотря на запреты, наутро «все пухлые мешки новобранцев были порезаны» и «нассано было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно заполнил подвал». Какие хтонические нравы! Для описания их надо иметь особую склонность ко всякого рода нечистотам, помоям, выделениям, испражнениям… Надо быть чем-то вроде Сорокина…
Но Астафьев круче Сорокина. Хоть Сорокин и показал, какой неисчерпаемый потенциал кроется в прозе наших заслуженных авторов, он все же – лишь имитатор. А Астафьев – аутентичен. Всякого рода «вонькая и скользкая» материя органически присуща его корявой прозе. Раньше, правда, цензура не давала возможности развернуться с какашками, но теперь, когда наступила свобода и стало ясно, какой колоссальный успех имеет фекальная проза, Астафьев извлек из себя нечто, исполненное подлинного аромата. Я уж не стану цитировать здесь эти проникновенные тексты. Знатоки и любители сами найдут их, оценят. Но тех, кто не склонен копаться в дерьме, заранее предупреждаю: на каждом шагу (особенно в первой книге) можно вляпаться… Уж таков этот автор – даже в газетном интервью на вопрос: что бы он посоветовал Президенту и правительству? – отвечает: «Указчику – говна за щеку».
Впрочем, фекалии – только финальная часть единого пищеварительного процесса, во всей своей полноте представленного в тексте Астафьева. Причем все аспекты этого процесса – поиски и добывание пищи, ее пожирание и переваривание, дефекация – все имеют какой-то гротескно-преувеличенный, разнузданно-дикий характер. Если бы Астафьев не был так угрюмо серьезен, можно было бы говорить о некотором раблезианстве его текстов, а так – посудите сами: «Если разгружали мясо, старались на ходу отхватить складниками или зубами кусочек от свиной, бараньей, бычьей, конской туши – все равно какой. Если несли в баке комбижир, продев лом под железную дужку, сзади следующий грузчик хлебал из бака ложкой, потом головной переходил на корму и хлебал тоже, чтобы не обидно было.
– Да что же вы делаете? – возмущались, увещевали, кричали на ловких работников столовские. – Обдрищитесь же! Вы уже каши поели, из котлов остатки доели, ужин свой управили, маленько подюжьте, картошка сварится, всем по миске раздадим, по полной, с жирами…
Никакие слова и уговоры не действовали на ребят, они балдели от охватившего их промыслового азарта. Ослепленные угаром старательского фарта, они рвали, тащили что и где могли, пытались наесться впрок, надолго. К середине ночи половина наряда бегала к столовскому нужнику, блевала, час от часу становясь все более нетрудоспособной».
Неправда ли, что-то в этом есть странное, родственное с упомянутыми выше мочеиспускательными безобразиями в казарме и воровством из котомок товарищей. Надо же так проголодаться, чтоб, попав на кухню, обожраться до рвоты. Нет, конечно, я знаю, что это возможно. И знаю, что в запасных полках было очень голодно. Но ведь писатель говорит о каком-то прямо апокалиптическом голоде, а между тем из текста следует, что норму свою солдаты все-таки получают. Даже специально описано, как они взвешивают то, что им дают, и выходит – все без обмана. Разумеется, солдаты говорят, что кухонные работники испортили весы, но это одни разговоры. Сам же Астафьев утверждает, что «командование и хозяйственники полка <…> предпринимали сверх усилия, чтобы накормить»…

«Авторская фантазия»
Все-таки этот Астафьев так мутно пишет, что иногда вообще ничего невозможно понять без специального исследования. От себя он говорит одно, а из его описания часто вытекает совсем противоположное. Может быть, это у него такой писательский метод? Во всяком случае, нечто вроде особого метода декларируется им в предисловии к книжному изданию первой части «Проклятых и убитых». Там по поводу другого произведения Астафьева, автобиографической книги «Последний поклон», сказано: «Как и во всяком сочинении, есть в ней и домысел, и вымысел, авторская фантазия, реальные персонажи сосуществуют иногда с никогда на свете не жившими, возникшими из моего воображения. Я понимаю, что вобью в удручение некоторых моих доверчивых читателей, коих воспитала наша упрощенческая критическая да убогая общественная мысль: коли есть прототип и все «списано с жизни», значит, книжка правдивая и автор человек хороший, но коли прототипа нет, то шарлатан он, не писатель и надо у него проверить документы».
Проверим, только сперва надо закончить цитату (следите за интонацией): «Но, люди добрые, живи человечество по законам соцреализма и сообразуйся с рецептами его, оно ж никогда бы не получило бессмертных произведений Гомера»… Следует список писателей и произведений, в который «люди добрые» уже сами могут включить автора «Прокляты и убиты». И включают. Добрый критик Андрей Немзер назвал его уже «новым Державиным» (на том основании, что в голове критика во время чтения текста Астафьева крутились стихи Державина). Любопытный, конечно же, способ работы у этого Немзера, но вообще-то критик должен как раз «проверять документы» – чтобы не оказаться загипнотизированным, например, интонациями базарного жулика и не пропустить подмен, которые жулики проделывают, такими интонациями прикрываясь.
Посмотрите: начав говорить о том, что его «биография отображена довольно полно и подробно» в книге «Последний поклон», Астафьев сам же предупреждает, что там есть вымысел. Ну и отлично. Таких книг много. Их можно читать как художественную прозу, а можно использовать для извлечения каких-то биографических фактов. Разумеется, в последнем случае приходится «проверять документы». Представляя свою книгу как биографическую, Астафьев вроде бы и говорит о необходимости проверки документов, но тут же начинает ругать каких-то мифических соцреалистов за то, что они у него документы хотели спросить. Как будто всякий, кто интересуется фактами, уже поэтому соцреалист. Не всякий. Но вот удивительно: манипулируя, ныне ругательным словом «соцреализм», Герой соцтруда Астафьев ловко подменяет действительно важную проблему достоверности документальной прозы – совершенно неважной: должны ли быть прототипы у героев каких-то художественных текстов?
Кому-то это может быть интересно, но при чем же тут соцреализм? Ведь соцреализм – это вовсе не значит «списано с жизни», это как раз наоборот: «вымысел, авторская фантазия» под знаком коммунистической идеологии. А если идеологический знак сменить на противоположный, то получится тот же соцреализм, но – с противоположным знаком. И ничего больше, никакого Гомера. Нашего «нового Державина» воспитала (и продолжает воспитывать) «наша упрощенческая критическая да убогая общественная мысль». Потому он, как видно, и думает, что писатель - это некий пророк, который, пользуясь таинственным инструментом «авторской фантазии», может сконденсировать и сообщить миру какую-то иную, более значимую истину, чем та, которая следует, например, из документов. Да, может. Но только в том случае, если он делает это бессознательно, не сообразуясь с какой бы то ни было идеологической программой. А если сознательно подтасовывать факты, сгущать краски, придумывать героев в надежде на то, что из этого выйдет какая-нибудь небывалая сверхправда, служащая каким-то возвышенным целям, то – получится только тенденциозность, родственная соцреалистической.
Что такое Астафьев – пророк или выразитель известной тенденции – это станет ясно чуть ниже. Что же касается рассуждений о том, что писатель даже свою биографию волен придумывать, то это лишь превентивный выпад против тех, кто станет говорить, что книга о войне должна быть если не прямо документальной, то уж во всяком случае точной. Астафьев и сам знает, что с этим у него не все в порядке, потому и отстаивает свое право на «домысел и вымысел». Лично я это священное авторское право оспаривать не собираюсь – пусть фантазирует. Но в таком случае позвольте и мне относиться к рассказанному как к фантазии. Я, например, знаю, что реальные факты, от которых отталкивается Астафьев, были ужасны, но писателя-то волнуют не они, а нечто другое. Продолжение

ЧИТАЕТЕ? СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ >>