Безграничное тело и адамический язык
5 октября, 2012
АВТОР: Анатолий Рясов
Пьер Гийота. Книга. / Пер. с фр. М. Климовой. Тверь: Kolonna Publications. Митин журнал, 2012. – 248 с.
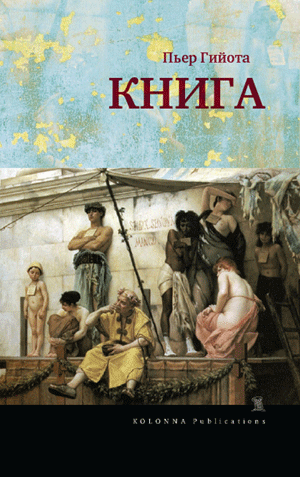
«Книга» — это седьмой роман Пьера Гийота, опубликованный издательством «Kolonna Publications». Тексты одного из сложнейших современных французских прозаиков с завидным постоянством переводятся на русский язык. В этом смысле ему повезло намного больше, чем даже столь именитым его соотечественникам как, например, Рене Кревель или Анри Мишо, все еще малоизвестным в России.
В корпусе текстов Гийота «Книга» занимает особое место. Этот роман, открывающийся и завершающийся знаком
![]() , задумывался автором как некий итог, как последнее, но при этом несмолкающее слово – неостановимый языковой поток, сродни дискурсу беккетовской «Трилогии» (вспомним открытый финал «Безымянного»: «должен продолжать, не могу продолжать, буду продолжать»). В «Книге» Гийота ставит перед собой невыполнимую на первый взгляд задачу: стереть всякую грань не только между телесным и языковым, но между письмом и материей как таковыми, и одновременно – подвести черту под исследовавшимися им в течение многих лет темами проституции, бисексуальности и рабства. В автобиографическом тексте «Кома» Гийота описывал сопутствовавший написанию «Книги» период саморазрушения компралгилом – опыт, позволивший ему максимально приблизиться к состоянию тела без органов.
, задумывался автором как некий итог, как последнее, но при этом несмолкающее слово – неостановимый языковой поток, сродни дискурсу беккетовской «Трилогии» (вспомним открытый финал «Безымянного»: «должен продолжать, не могу продолжать, буду продолжать»). В «Книге» Гийота ставит перед собой невыполнимую на первый взгляд задачу: стереть всякую грань не только между телесным и языковым, но между письмом и материей как таковыми, и одновременно – подвести черту под исследовавшимися им в течение многих лет темами проституции, бисексуальности и рабства. В автобиографическом тексте «Кома» Гийота описывал сопутствовавший написанию «Книги» период саморазрушения компралгилом – опыт, позволивший ему максимально приблизиться к состоянию тела без органов.
В отличие от романа «Проституция», казалось бы, полностью материализовавшего метафору мир-бордель, но все же сохранившего едва приметные пространственно-временные контуры, «Книга» отказывается от этих последних ограничений. В алжирских муэдзинов здесь врастают украинские солдаты, римские работорговцы душат змей в мечетях, а Спарта граничит со Сталинградом. Проституция предстает зловещей тайной, уходящей в глубины культуры и даже самого бытия, неотъемлемой частью непроницаемой тьмы прошлого, чем-то наподобие следа в философии Жака Деррида. «В самом начале этого генеалогического подвижничества меня посетило длившееся несколько секунд видение, будто я только что приступил не просто к написанию еще одной книги, а Книги, которой будет посвящена вся моя жизнь, каковая, согласно принятому мною тогда решению долго не продлится, и траектория Книги будет прочерчена от первых послевоенных лет до первого “доисторического” самца, занимающегося проституцией». Небольшое предуведомление автора по сути оказывается единственным и довольно зыбким ориентиром в последующих двух сотнях страниц, традиционно для Гийота испещренных сценами садистских совокуплений. Проститутки, солдаты, старухи, дети, священники, имамы, раввины, звери, калеки, мутанты, — все копошатся в грязном месиве мазута, напалма, внутренностей и экскрементов. Однако крамольность «сюжета» у Гийота никогда не представала подлинным нарушением запретов, главное событие «Книги» совершается в области языка, а потоки спермы здесь синонимичны самому письму.
«Книга» изобилует сценами нарочито брутальными, чтобы можно было воспринимать их буквально (на эту провокацию неизменно будут попадаться читатели, заранее предугаданные текстом). Но важнее то, что романы Гийота абсолютно герметичны, они отчаянно сопротивляются всякой интерпретации – они противятся самому акту выжимки смысла (полной противоположностью покажутся книги Франца Кафки, широко распахивающие двери для всевозможных толкований, но в действительности точно так же указывающие в таинственную область, предшествующую интерпретации). Слова Ролана Барта, произнесенные по поводу маркиза де Сада, можно повторить применительно к стилю Гийота: «Посредством сырости языка устанавливается дискурс вне смысла, разрушающий всякую “интерпретацию” и даже всякий символизм, это территория без таможни, внешняя по отношению к обмену и к подсудности, своего рода адамический язык». Гийота (пожалуй, с большими основаниями, чем Жоржа Батая) можно назвать главным продолжателем традиции Сада, избравшим объектом разрушения собственное слово. И одновременно – именно на пике отрицания собственных оснований, в хаосе и неупорядоченности слово «Книги» достигает наивысшей степени интенсивности.
Язык здесь бьется в нескончаемых конвульсиях: эрозия затрагивает не только словоупотребление и орфографию, но и грамматические структуры, а синтаксис ограничивается лишь бесконечными запятыми. Избирая цитаты, едва ли удастся отыскать пассажи, свободные от ненормативной лексики, ведь самые безобидные эпизоды выглядят следующим образом: «очистить от тридцати трех часов што в трюме проведены, без отдыха, лежа на м’трасе внизу, тряска непрекращалась, пятьдесят узлов, все соки вышли, пена в’дная, слюна небная, дермеца немного, пот пальцев ног, сперма домашних животных, кровянка, гной от пыток, сера ушная, заполнившая раковину ушную, шея, грудь трясется в оргазме, бурнус скотника с Алжира Маскары бок о бок с в’лосатиком крепким в тюрбане глухо-немым». Разрушение языка обращается здесь не столько созданием нового перверсивного языка, а скорее – рождением артикулированной перверсии, подобно артодианской чуме расползающейся по страницам «Книги» и явно намеревающейся заразить читателя, превращая его даже не в свидетеля, но в соучастника преступления, организованного письмом. Всеобщая проституированность предстает в «Книге» как безграничное тело – здесь почти стирается противоположность между «своей» и «чужой» плотью (впрочем, это почти имеет принципиальное значение для сохранения важнейшей для дискурса Гийота антиномии господин/раб).
Автор (хотя вернее было бы вслед за Бартом сказать – сам текст) неиссякаем на омерзительно-поэтичные образы и богохульные метафоры. Но здесь обнаруживается и главное отличие «Книги» Гийота от эстетики Сада. Если для последнего преступление всегда диктовалось чувством отвращения к Богу и было жестом атеистического бунта (можно вслед за Пьером Клоссовски сказать – основой негативной теологии), то для Гийота – и это главный парадокс его непристойных текстов – сладострастие, святотатство и нарушение заповедей становятся актом веры, высшей точкой слияния с Богом. Несомненно, благочестивые читатели будут предсказуемо возмущены навязчивой мелодией преступления, не отличимого от святости (несмотря на то, что во французской литературе уже выстроена целая традиция «цветов зла» — от Лотреамона до Жана Жене). Но Гийота задается целью не просто пропитать текст библейскими аллюзиями и преподнести оргию как аллегорию христианского братства, а написать нечто вроде собственной Библии или Корана. Как монахи-пустынники час за часом предавались молитвам, а суфийские дервиши кружились в мистических танцах, так «Книга» стремится сделать актом веры бесконечную ретрансляцию порнографических мантр. Сакральное и порочное здесь, как и у Батая, не противопоставляются, но объединяются в трансгрессивном.
С одной стороны, роман «Книга» как мощнейший социокультурный раздражитель знаменателен самим фактом публикации, с другой – искушенные читатели, уже открывшие в «Эшби» и «Воспитании» другого Гийота, возможно, не почувствуют разницу между предшествовавшими романами и «Книгой» как фундаментальную, но увидят лишь еще одну вариацию на темы «Могилы для 500000 солдат»…

