Entbehren
8 ноября, 2012
АВТОР: Игорь Фунт
НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ
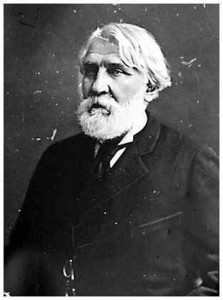
Божественная двойственность или двойственность божественности… Гомер, Данте, Шекспир, Рафаэль, Вивальди, Моцарт, Гейне, Пушкин, Тургенев… – «Бог, – говорит Гёте, – есть всё, если мы стоим высоко; если мы стоим низко, он есть дополнение нашего убожества». – Взятый извне, список этот выглядит довеском к бережно лелеемой нами отчуждённости, душевном безразличии к судьбам мира, и наоборот – суть имён обожествляется в содержании причастности к мировой истории, изживая идолопоклонство, следы которого просматриваются едва ли не во всех срезах жизни, создавая «религию стереотипов» (Свасьян К. А.), состоящей в неосознанной привычке «сотворить себе кумира», примитивно налепить «божественный» эпитет ближайшему сценическому герою. А ведь слышались упрёки и в «двуличии», историческом «лукавстве» Тургенева (Б. Садовский), какая уж там божественность!
– Мы ещё не решили вопроса о существовании бога, а вы хотите есть! – На то и звали Виссариона «неистовым», что остановить его, распалённого, с прилипшей прядью волос, в поту, кашляющего, – не так-то было легко. Но Белинский Тургенева любил – всего, зная и силу его, и слабость: «Что мне за дело до промахов и излишеств Тургенева, – говаривал он, – Тургенев написал «Парашу»: пустые люди таких вещей не пишут». – Чувствовал – Тургенев беспредельно выше его, образованнее и талантливей: а вот же, занимает место ученика, – оттого было несколько покровительственным, несколько «свысока» его отношение к Тургеневу, на которого рассчитывали больше как на союзника в некоем деле для осуществления «честных» целей (борьба с крепостничеством, николаевским режимом, с «мерзостью настоящего, неопределённостью будущего»), своею холодностью и безразличием чуть не отлучив Тургенева от литературы вовсе («Грустно было бы думать, что такой талант – не более, как вспышка юности…») – вот удружил бы нам Белинский!
Блаженные времена…
Когда могли вестись эти «беззаветные, бесконечные разговоры о «матерьях важных», когда юные приятели могли писать друг другу письма в 10, 20 и более печатных листов, когда между ними царила такая же дружба, как между платонически влюблёнными институтками» (революционер-семидесятник Златовратский). Писатель часто ходил к Белинскому («детски правдивый человек, герой труда, образец искренности и благородства») отводить душу. Виссарион Григорьевич занимал квартиру в нижнем этаже по Фонтанке, недалеко от Аничкова моста – невесёлые, довольно сырые комнаты.
Тяжёлые тогда стояли времена, вспоминал Тургенев, нынешним молодым людям не приходилось испытать ничего подобного: «Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане… Ну, вот и придёшь на квартиру Белинского, придёт другой, третий приятель, затеется разговор и легче станет. …Истина была для Б. слишком дорога; к одной лишь московской партии, к славянофилам он всю жизнь относился враждебно…
В собственных промахах Белинский признавался без всякой задней мысли: мелкого самолюбия в нём и следа не было. Ничего не было для него важнее и выше дела, за какое он стоял, мысли, которую он защищал и проводил: тут он на стену готов был лезть, и беда тому, кто ему попадался под руку! Нет! подобного ему человека я не встречал ни прежде, ни после!»
Из письма к Б. (1847): «Анненков мне ничего не написал об вашем здоровье; он предпочёл наполнить свою записку той аттической солью своего остроумия, которая иногда, к изумленью, как говорит Гоголь, напоминает вкус славянского бузуна… Мне нечего вас уверять, что всякое хорошее известие об вас меня обрадует; я хотя и мальчишка – как вы говорите – и вообще человек легкомысленный, но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь. В течение этого времени я ничего не сделал путного… Да, ради бога, обратите внимание на вашу кухню – а то опять вы себе расстроите желудок».
Но вернёмся к существованию Бога, по Белинскому.
«Основа и причина нашего совершенства, а следовательно, и блаженства есть благодать Божия». «Без личного бессмертия духа жизнь – страшный призрак. Я верю и верую! Да – жив Бог – жива душа моя!» «Для меня Евангелие – абсолютная истина, а бессмертие индивидуального духа есть основной его камень. Да, надо читать чаще Евангелие – только от него и можно ожидать полного утешения». «Религия есть основа всего и без неё человек – ничто» (из писем Б. 1837 – 1840 гг.).
Да, спорить им было о чём. И тот и другой стремился следовать существу христианства – жить по правде, справедливо задаваясь вопросом: как в стране, где христианство признано официальной, государственной религией, может существовать такое безобразное явление, как крепостное право? Как и многим просвещённым людям России XIX века им свойственно было характерное сочетание благоговейного отношения к истокам, основам христианства и отрицания самой Церкви, проявлявшегося разочарованием в традиционных церковных практиках, в месте Церкви и роли священника в обществе, да и в нравственном уровне самого общества, на которое, по-видимому, религия и Церковь не могли оказать должного влияния – возможно, последнее и было главным.
Не могу пребыть без рыдания!..
До конца тлеет благочестие;
Процветает ныне всё нечестие:
Духовный закон с корения ссечён,
Чин священническ сребром весь пленён,
Закон градской в конец истреблён.
(Из духовных стихов раскольников)
Но это не вело ни Тургенева, ни Белинского к отрицанию религии вообще: «Никто так пошло не врёт о религии и своим поведением и непосредственностию не оскорбляет её, как русские попы, – и однако ж из этого не следует, чтобы религия была вздор». «Были в соборе, куда попали на отпевание покойника. Ещё прежде видел я католических попов: верх безобразия! Наши сквернавцы перед ними красавцы…» – сетовал Б. в 1847 г.
– Мы ещё не решили вопроса о существовании бога, а вы хотите есть! – Гегельянцу Тургеневу очень важны были эти затрапезные беседы с не очень образованным, бедным, но вследствие этого «близким к сердцевине своего народа» человеком – ведь именно тогда и зачиналась драма Тургенева, основанная на бесконечной любви к родине, но с оглядкой, невольным поведенческим откатом, поворотом головы на Запад: «Я люблю и ненавижу Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину». У въевшегося в немецкую философию и прогрессивную европейскую культуру, осознающего пагубность становления Истории поперёк дороги, вслед за Кантом, Шиллером и Гёте зачиналась у Тургенева-гуманиста великая борьба за Дух против угашающего его Слова, и едва ли не в первую очередь собственного слова, ибо где же, если не в собственном несравненном слоге, слове таилась столь же несравненная угроза Духу! – вот она, драма «морального долга» и «личного счастья», как принято говорить в критике, где Любовь-дух проигрывает Долгу-слову.
«Вне религии вера есть никуда не годная вещь», – резюмировал перед смертью Виссарион Григорьевич (1848). А мы добавим, что своими очень живо воссозданными философскими беседами с Белинским Тургенев останавливает наше внимание на факте «мучительных сомнений», как Белинского, так и самого себя. Будет потом и эпоха народничества острого, «дьявольски умного» Герцена, и «физиологический», по Бранту, Некрасов с «новым поэтом», коллегой по «Современнику» либеральным фельетонистом-реалистом Панаевым, но Белинский всё ж таки важнее всех по значимости. Знакомивший Белинского с передовыми течениями немецкой философской мысли (Фейербах, левогегельянец Д. Штраус, Б. Бауэр) Тургенев вместе с «сомневающимся» в своём мировоззрении другом-критиком, в стереотипе атеистом, преодолевал прежние свои философско-поэтические, идеалистические представления, пытаясь разгадать Божий, как ни крути, замысел о жизни. И, думается, Тургенев особо нуждался в нём, что, «не встреться он с Белинским, не совсем то вышло бы из него, что вышло в действительности» (Е. Соловьёв).
Добавим, правды ради, что в те времена, в приснопамятные сороковые, не обострялись ещё между Тургеневым и Белинским «классовые противоречия», а то позднее, будь последний жив, нельзя сомневаться – он громил бы друга Тургенева почём зря – за барское безделье, дворянскую блажь, за привязанность к чистой красоте; в том числе и за свою бедность, необразованность, неказистость и несветскость, да за «подлейший свой французский язык, каким не говорят и лошади», однажды, в дни дрезденского знакомства с Виардо (1847) превращённый Тургеневым в злую шутку.
Он так и не попрощался с ним – с этим нервным, раздражительным, чахоточным литератором, обладавшим тонкой и сложной натурой, отличавшимся необыкновенной искренностью и способностью к стремительному развитию в поисках истины, отчасти «персонажем из Достоевского», – уезжавшим в свой последний путь из Парижа в Россию, чтобы быть похороненным там чуть ли не тайком во исполнение одного из неписанных правил сурового николаевского режима «Не увлекаться литераторами и литературой». Как впрочем, не попал Тургенев и на похороны собственной матери, и в дальнейшем – к знакомому с молодости Герцену, хотя и мог приехать…
«Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной», – жертвенные слова Достоевского вполне бы мог произнести Белинский, мог бы и Тургенев… если б не одно «но»: Тургенева срочно отозвала из Парижа Виардо, и он умчался к ней, забыв об умирающем друге – «Стихии управляют мной!» – оправдывался он потом.
А далее… что?
Далее – громадное наследство, прекрасно устроенные имения, пай в «Современнике», далеко не дешёвые права на собственные издания, «неудовлетворительные», по скромному выражению, но вполне успешные выступления на сцене в качестве драматурга. Он внезапно становится богачом, человеком безусловно свободным и безусловно независимым. Далее – крымская война, смерть Николая I, «Рудин», «Фауст», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети»; cлава Тургенева, под которую заложен был такой несокрушимый фундамент, как два тома «Записок охотника» (дух которых жандармское управление учуяло раньше, чем критика) продолжала нарастать и достигла размеров, до той поры невиданных. Французская революция…
Мрачная эпоха пятидесятых канула в вечность, неудачи возродили Россию к новой жизни. Александр II, освобождение крестьян («Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим!» (Толстой)) – «время великих реформ» – нелепое чванство молодёжи, оплевание Пушкина, непонимание Толстого, Фета, Достоевского, торжество нигилизма, время первого в нашей литературе большевика Базарова, Нечаева, «Бесов» с пародийным обликом Тургенева в лице Кармазинова, разгул «левизны»…
Тургенев же сделался поистине европейским, мировым писателем – теперь почти все лучшие произведения русской литературы (Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой) переведены на иностранные языки.
Шестидесятые…
«…Смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость ещё не настала». Морозы, ухабы, милый московский иней на деревьях, розовое солнце… простуженное горло. Тургенев мнителен и избалован – все эти пледы, туфли, микстуры, все его страхи, от ангины до холеры («Холера к вам не успела пожаловать?»), томные жалобы, возня с докторами, эти его вечные завсегдатаи: Борисов, Николай Толстой, «реакционер» Фет, «два-три интересных дамских существа»… («В моей комнате я с Фетом спорил до того, что стон стоял во всём доме от диких звуков славянской речи!»)
Петербург, Париж, Соден, Висбаден, элегические и кокетливые записочки… не к Виардо – графине Ламберт, писательнице Вовчок… Жизнь двумя ушедшими жизнями – одна в другой отражается: в одной – Губаревы, Катковы, Суханчиковы и Бамбаевы, «надёжно» талантливые плебеи из дворян Некрасовы; оскорбления, непонимания, Достоевский, раздражавшийся барственностью Тургенева и тем, что был ему должен; в другой – безмерность любви, горы, зелень, родник, птицы… Одною ногою здесь, другой там, пред зрелищем последней тайны: Смерти.
«Смешно… в 50 лет начать гнездо вить… Вы как хотите и где хотите, – моё гнездо в могиле». – Это не Тургенев, это пророчески писала ему мать в 39-м, покрытая той самой неисчезаемой тенью.
По трудному пути растерянная гордость
И всетерпящая, постылая ей твёрдость,
Желанья и мечты, которым никогда
Свершиться не дано – и верная беда…
(Некрасов)
«Да, сверх того на днях моё сердце умерло. Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. Прошедшее отделилось от меня окончательно, но расставшись с ним я увидал, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел… Вот если бы снова возродилась малейшая надежда возврата, она потрясла бы меня до основания… Несомненно и ясно на земле только несчастье. – И вновь несомненность несчастия не перекрываются несомненностью Истины, к сожалению. – Das Herz mir im Leibe hupfen…*» Но мы отклонились в сторону.
…И ушли далеко вперёд – нам этого не надобно; а если и надо, то тема бердяевских кровавых бацилл «народнического мракобесия» 70-х неизменно перерастёт в отдельную статью с грустным названием «Народничество и Бог», где начать придётся с религиозных миросозерцаний Фейербаха… что, конечно, шутка, но ведь и Тургенев любил задвинуть:
«Что делать! Охоту я люблю страстно – но холеры боюсь ещё больше! – восклицает Т. в письме Некрасову, – …ты ещё много здоровяков перескрипишь. Веди только жизнь аккуратную – и не подставляй свой без того не яркий светоч дуновению страстей. Каково сказано? – так и виден высокомерно-лукавый тургеневский прищур: – …Мне, признаться, несколько досадно на «Современник», что он не отделал, как бы следовало, гнусной мертвечины Чернышевского, это порождение злобной тупости и слепости. Эта худо скрытая вражда к искусству – везде скверна – а у нас и подавно. Отними у нас этот энтузиазм – после того хоть со света долой беги!»
«Тургеневым замыкается целый период нашей художественной литературы и общественного развития, запечатлённый особенным типом – идеализмом сороковых годов, несомненно возвышенным и гуманным, но более или менее неопределённым, малосодержательным, почти беспочвенным, более эстетическим, чем нравственно-доблестным; почти систематически чуждавшимся русского народного и исторического духа или, по крайней мере, сильно космополитическим, ощущавшим себя на Западе Европы несравненно более дома, чем в родной стране» (Аксаков И. С.). В этом «эстетизме» скрыто немодное для того времени понятие искупления, самопожертвования тургеневскими героями во имя непростых, иногда трагических исканий истины и духовности; помните в «Войне и мире»? – встреча, взаимное прощение двух смертельно раненных соперников, и чувство христианской любви, внезапно их осенившее, – если граф Толстой и реалист, то в нём бесспорно кроется способность выразить в строго реалистической форме самые неуловимые, тончайшие, самые возвышенные, именно христианские движения души, дать им, так сказать, художественную, такую же тонкую плоть и воздействовать ими на душу читателя исподволь.
И что как не молитва и причастие – последнее предсмертное письмо Толстому, символу русской литературы: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар ваш оттуда, откуда всё другое (вот!). Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что моя просьба так на вас подействует». – Даже на смертном одре Тургенев думает о будущем своей страны и мира.
Покинуть мир восторгов и видений,
Прекрасное, святое сердцем понимать,
Не в силах быть – и новых откровений
Больной душе печально ждать.
(1840)
***
Подыму тебя с дороги –
Покажу тебя богам.
– Эта выкинутая Белинским строфа романса Рафаэля из «Неосторожности», «безделки в роде Мериме», как раз и выражает квинтэссенцию будущей его самопожертвенности, духовного взлёта над… пропастью непонимания неудачного опыта начинающего писателя, «ещё не умеющего владеть драматической формой» (Морозов), – являясь жанровой связью с «маленькими трагедиями» Пушкина, не менее. Непонимание, приведшее Т. чуть ли не к отречению от театра, было связано и с бесконечными, безвозвратно утерянными изъятиями из оригиналов текстов наиболее острых черт живого просторечия, элементов социально-политической сатиры, щекотливых слов и строк, нетерпимых по тем или иным причинам императорской сцене, по праву оценённым и поставленным в ряд с Шекспиром и Гоголем лишь в 20 веке («Безденежье», «Где тонко, там и рвётся» и др.): «Горский ведь тот же Печорин. Жидковатый и пошловатый, но всё же Печорин» (Чехов).
Он отрекался не раз, с годами пересматривая своё отношение к понятию «отречения», граничащего со скорбным разочарованием – идеей долга, общественного служения, противопоставленного личным стремлениям. Канва, синопсис творчества: духовное пробуждение, моральная эмансипация, вторя Пушкину, – и последующая катастрофа как финал пессимистического скепсиса и отречения – и всё обёрнуто в историю любви. Это уже не экзистенциализм Гёте, поэта Тургеневу очень близкого, с его обворожительными метафорами о «заброшенности» и «ненадёжности» мира, где «мир», взятый в разных контекстах, выглядит сущим антонимом, – это объективная реальность с её социально-психологической правдой, данной в определённой обстановке русского поместного быта и обусловленная характерами и понятиями, выработанными под воздействием окружающей среды и воспитания.
Трагедия отречения – в несостоятельности, неспособности к решительным действиям, столь знакомой Тургеневу и одновременно его не удовлетворяющей; трагедия отречения – в противоречиях между принципами, внушёнными с детства матерью, и властным голосом чувств; трагедия отречения – в шопенгауровском аскетизме, уходе от жизни и её опасностей, и одновременно в «чуткости писателя к человеческому горю» (Н. В. Шелгунов). И как итог – драма Тургенева, писателя и человека: в гётевской иронии над понятием «отречения» как над «прописной мудростью», призывающей к отказу от запросов собственного я, к смирению неуёмных желаний, – в пику тургеневскому «отречению», поставившего слова Гёте в эпиграф своего «Фауста» – как эпиграф к собственной жизни.
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
(Пушкин)
«…Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение, жизнь тяжёлый труд. Отречение, отречение постоянное – вот её тайный смысл, её разгадка, не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны не были, – исполнение долга, вот о чём следует заботиться человеку…» «…Зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слёзы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это всё только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни… одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, – всё, всё нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы?
…Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти… О боже! неужели нельзя верить чуду?» – вопрошает Тургенев устами Елены Стаховой («Дон Кихота в юбке» (Дараган)), олицетворяющей молодую Россию накануне предстоящих перемен. Ответа нет (будет ли?) даже и сегодня, в наши дни, – противоречивых мнений на этот счёт много – как и размышлений-советов насчёт извечных грядущих перемен, кому ж судить?
Скажу так: судить не мне – и не этого Ивана. Пока же… просто помяну, с Вашего благосклонного согласия, скромной молитвой своей великого, величайшего русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, и да упокоит его грешную душу милосердый Господь в селениях праведных! А закончу тем, с чего и начал, – изречением Гёте:
«Высший гений – это тот, кто всё впитывает в себя, всё способен усвоить, не нанося при этом никакого ущерба своему действительному, основному назначению, тому, что называют характером, вернее, только таким путём могущий возвысить его и максимально развить своё дарование. – И ещё одно, за несколько дней до смерти, самое существенное: – Духа не угашайте».
Entbehren – понятие «отречения» используется и Гёте, и Тургеневым в «Фаусте» ради наиболее полного и всестороннего постижения мира. «Отречение» является также одним из важнейших мотивов книги мемуаров Гёте «Поэзия и действительность».
* Моё сердечко прыгает от боли (нем.).

