В ожидании фильма Германа по роману Стругацких
8 декабря, 2012
АВТОР: Соломон Воложин
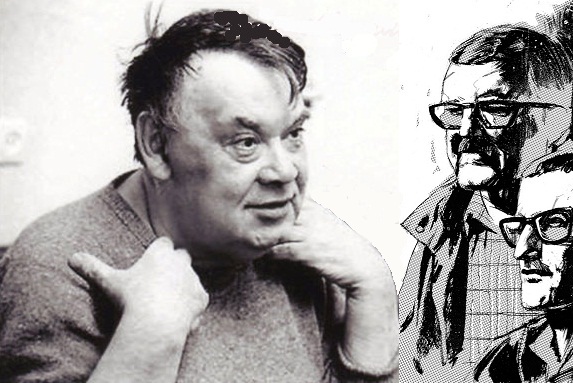
Смотрите, какая непростая мысль. Мещанин – это скучный. Объективно. Что мещанину делать? – Развлекаться экстремами. Например, Джеймсом Бондом или «Сталкером» Тарковского. Развлекаться. То есть, не принимая близко к сердцу.
Так я упростил мысль 1969 года рождения, мысль Льва Аннинского (ещё и применив для объяснения фильм 1979 года рождения; но ничего, в 1967-м была ограниченная премьера «Андрея Рублёва», и Аннинский мог её видеть и оценить, – эту свободу коней, пасущихся под дождём: да здравствует, мол, естественность!):
«А может, в этом есть что-то неотвратимое? [В естественной тенденции к омещаниванию людей планеты, призванных, казалось бы, Октябрьской революцией к историческому творчеству, к созданию нового мира, нового общества, небывалого ещё на планете. Что есть скучно для мещанина, не способного на что бы то ни было, если это не является Личной Пользой.] На всех уровнях? На самом [в культуре] низком – где сентиментальные драмы «из жизни обыкновенных людей» где-нибудь на Западе уже прочно выбиты плоской энергичностью Джеймса Бонда, пышностью длинных зрелищных лент, взрывной силой элементарной динамики? На самом высшем уровне – где у нас неистовый в чувствах Тарковский теснит человеколюбивого автора сентиментальной ленты «Жили-были старик со старухой»?» (Искусство нравственное и безнравственное. М., 1969. С. 154).
Эта сентиментальная лента «Жили-были старик…» несколько сбивает. Есть, что ли, отличие между мещанином Запада и мещанином СССР? Любимая песня старика была «Жила бы страна родная, / И нету других забот». Песня, мол, партизан из кино 1958 года «По ту сторону». Боевик посвящён 40-летию ВЛКСМ. О гражданской войне. Старик из «Жили-были…» умирает, простудившись из-за дочки, гнавшейся за счастьем настолько, что оставила свою годовалую дочку. Старик вернувшуюся потом к мужу дочку прогоняет: её место уже занято. «Жить надо не для радости, а для совести», — как сказал подкалываемый автором Савва Игнатьич в одном фильме об общинной жизни. – Вроде, отличие между мещанами планеты есть. Как факт… Даже совсем уж мещаночка из «По ту сторону» и та говорит: «Какая она бывает, другая жизнь? Где бы её увидеть?». Она-то это говорит, думая об исключительной любви, но в контексте боевика это звучит как-то не личностно. А может, тут и не одного советского мещанина отличие от западного. Как ещё факт… «Сама мысль о том, что Россия — никакая не великая страна (не важно, проявляется ли это величие с позитивным или негативным знаком), а самая что ни на есть обычная <…> почему-то вызывает у многих наших соотечественников <…> крайнее неприятие и полнейшее непонимание. Жаль, не успел спросить свою собеседницу: а как это воображаемое «величие страны» (острая тоска по утрате которого прорывалась в ее репликах) влияет на ее жизнь, на жизнь ее семьи, друзей? Или для нее «жила бы страна родная — и нету других забот»?» (). Не тот российский менталитет всё-таки, чем у людей на Западе?
Так автора бондианы и Тарковского, получается по Аннинскому, объединяет общность положительного отношения к идеалу Личной Пользы, носителя которого нужно ублажать экстремами телесными (на Западе) или душевными (в СССР)…
А сценарий «Сталкера» написали Стругацкие… О юродивом… Юродивые же на Руси уважаемы совсем не за юродство, а за высшей пробы духовную экстрему, нацеленную на «жила бы страна родная, и нету других забот», пусть и не только земное царство, но и царство Божие имеются в виду юродивыми… Поэтому тайно посмеяться Стругацким и Тарковскому над таким, не западномещанским менталитетом своего народа было очень даже по сердцу?..
И то же, что ли, в 1964-м и с «Трудно быть богом»? (С маленькой буквы «богом», и не только потому, что в СССР запрещено было слово «Бог» писать с большой буквы)…
Запомнилось мнение Плеханова о Ленине: «Как я только познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего дела очень опасным, так как его главный талант – невероятный дар упрощения» ().
Вот у Стругацких такие упростители, мол, послали в средневековье на какой-то планете тайных подправителей истории… Как на Земле ж – попробовали ж перескочить через формацию: аграрную страну, Россию, — в коммунизм прочили… В социализм, по крайней мере. Который можно-де построить в отдельно взятой стране…
Попробовали и что получилось? – Тоталитаризм с миллионами жертв.
Вот и на той планете… Сорвался подправитель истории…
Ал. Герман-старший, мол (см. ), этот срыв не мог экранизировать (душа, мол, не позволила), когда в 1968-м получил разрешение глупой власти, не понимающей, что творит (вторжение ж в Чехословакию произвели подправители истории). Понимай, снял бы кино, власть бы поняла, что это, и ему бы нагорело. Так лучше было и вовсе не снимать.
Сейчас, мол, другое дело. Всё-таки какая-никакая демократия… И может пройти. А ситуация – опять угрожающая – путинский авторитарный режим!.. Опять власть хочет тихой сапой нащупать особый путь России в Истории. Нет, чтоб подчиниться истории обычной, а в ней – американскому глобализму…
И… прощай «Лапшин»!.. В котором Герман же проявил себя всё-таки наследником своего отца, верившего в исключительность исторической миссии СССР, страны, первой в мире строящей новое, совершенно новое общество…
Прощай, исключительность России!..
Может ли произойти такая эволюция в творце? Или негодна мысль, что не могут, по большому счёту, эволюционировать художники несгибаемого характера, каким мне (см. ) до сих пор – из-за «Лапшина» – представлялся Герман старший? Или я просто ошибся в интерпретации «Лапшина»?..
Или Герман перевернул Стругацких на 180 градусов?
Это б объяснило, заодно, почему он за них взялся…
Я читать этот роман, «Трудно быть богом», не мог. От противности натужного оживляжа необычной для нас, средневековой, действительности.
«Румата убрал со стола, подмел пол и протер стекло единственного окна, почерневшее от грязи и химических экспериментов, которые отец Кабани производил на подоконнике. За облупленной печкой он нашел бочку со спиртом и опорожнил ее в крысиную дыру».
Подчёркнуты назойливые штрихи низкого уровня средневекового быта.
«…и в ту же минуту из ночной темноты в комнату шагнул дон Кондор, Генеральный судья и Хранитель больших государственных печатей торговой республики Соан, вице-президент Конференции двенадцати негоциантов и кавалер имперского Ордена Десницы Милосердной».
Про подчёркнутое читаешь и с досадой думаешь: неужели надо запоминать эти выдуманные подробности государственного и общественного устройства выдуманной страны?
«Румата вскочил, едва не опрокинув скамью. Он готов был броситься, обнять, расцеловать его в обе щеки, но ноги, следуя этикету, сами собой согнулись в коленях, шпоры торжественно звякнули, правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону, а голова нагнулась так, что подбородок утонул в пенно-кружевных брыжах».
В тонкости выдуманного этикета тоже надо вникать?
Я не мог. Я стал читать так, как смотрят сквозь пальцы. Я не стал запоминать ни одного имени действующих лиц или не действующих святых, ничего географического: существительного или прилагательного, ни одного гастрономического, хозяйственного, бытового и т.д. изделия – всё нарочито странно звучащих. – Во всём этом было такое густое дурновкусие, что я не понимал, откуда у Стругацких популярность. (Наверно, из-за «элементарной динамики».)
Вот если б их бесталанность дополнительно раздражала Германа, а не только идейный замысел, которому они приделали раздражающий оживляж, — тогда б я понял, зачем он взялся именно их неорганичное создание полностью переделать. Они б, я думал бы, вдохновляли б его на всяческое опровержение их ненавистного ему мировоззрения насчёт естественного хода истории на Западе и неестественного – в СССР и России.
На Западе от социального государства качнулись к либерализации, а Путин в России во время кризиса 2008 года не допустил свёртывания социалки. Опять не такая Россия, как цивилизованные, так называемые, страны. Опять мечтается о сталинском, — только без жертв, — научно-техническом рывке 30-х годов. Опять надежда на чудо. Опять – неестественность, квалифицируемая именно так с западномещанской точки зрения.
А не проверить ли… того же «Сталкера», пока ещё не появился фильм Германа?
Надо не фильм пересматривать, а сценарий читать. Видеоряд отвлекает.
И вот я прочёл.
Да.
Общие рассуждения верны.
Хорошо. Часто они не оправдываются, и надо припадать к земле, как Антею… А тут – совпало. Хорошо.
Как я и заподозрил, — с подачи Аннинского, — Тарковский оказался только по антуражу романтиком, а идеал его – мещанский. Братья же Стругацкие тем молодцы, что почувствовали запрос Тарковского на этот р-р-романтический антураж, и отлично выполнили заказ. У них самих густоты необычности – опасностей и чувств – было мало для Тарковского, вот он их и шпынял, и заставлял 9 раз сценарий переписывать.
Если долго мучиться, что-нибудь получится. (Скучный метод, а зато совершенно достижительный.) И да здравствует достижительность!
Не нужно, по сути, ничего необычного (только для антуража оно нужно). Точнее, не нужно необычного для общества. Не нужно стремиться к счастью человечества. А нужно – только к личному счастью мужчины и женщины. Которое – исключительно. Только здесь-то и нужна исключительность. И каким бы юродивым ни представал Сталкер перед своею будущей женой, она…
«Я и сама про все это знала: и что смертник, и что вечный арестант, и про детей… А только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним мне будет хорошо».
Недавно я где-то прочёл (не знаю, насколько это правда), что когда волчица избрала себе пару, то стая готова жизнь каждого положить за её выбор и никому не позволит этот её выбор оспорить силой, будь претендент исполнен хоть каких превосходных статей. Самка сама чует, с кем у неё будет лучшее потомство.
А люди типа Тарковского, воинствующие мещане, запросто готовы свести людей до животного уровня. (Вы же это ни за что не увидите – из-за романтического антуража. Он-де такой возвышенный, такой одухотворённый… «Так вот однажды мы во дворе стукали в одни ворота. Воротами была бетонная стенка. На асфальте стояли лужи <…> Около нас остановился чужой бледный мальчик, комплексуя своей авоськой с хлебом. Именно его потом узнал в странном новеньком нашего класса. Чужой был одет в белый свитер крупной, грубой, наверное, домашней вязки. «Стоновись на ворота», — добродушно бросил ему Шка. Фикса его вспыхнула усмешкой, он загорелся предстоящей забавой <…> Стоит белый свитер в воротах. / Тринадцатилетний Андрей. / Бей, урка дворовый, / Бей, урка дворовый, / бутцей ворованной, / по белому свитеру / бей — / по интеллигентской породе! / В одни ворота игра. / За то, что напялился белой вороной / в мазутную грязь двора. / Бей белые свитера!»)
Вот, что такое художник (Тарковский): он идёт путём наибольшего сопротивления. Раз сокровенное – мещанство, то изображается – романтизм.
Страсти-то какие!..
«ПИСАТЕЛЬ. Я вот все насчет покупного вдохновения. Положим, войду я в эту Комнату и вернусь в наш Богом забытый город гением. Вы следите?.. Но ведь человек пишет потому, что мучается, сомневается. Ему все время надо доказывать себе и окружающим, что он чего-нибудь да стоит. А если я буду знать наверняка, что я — гений? Зачем мне писать тогда? Какого рожна? <…> Они же все поголовно грамотные, у них у всех сенсорное голодание. И все они клубятся вокруг — журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют: «Давай! Давай!..» Какой из меня, к черту, писатель, если я ненавижу писать. Если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому! Я сдохну, а через два дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня! По своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать! Они только жр-р-ут!».
И не нужна ему эта Комната Удовлетворения Желаний.
«ЖЕНА [во сне Сталкера на привале]. И вот произошло великое землетрясение, и Солнце стало мрачно, как власяница, и Луна сделалась, как кровь… [говорит словами из «Апокалипсиса»; то есть пришли последние времена и в действительности: скажем, ядерная война на подходе, не пугание ею, а таки сама она]».
И не нужна ей Комната Удовлетворения Желаний.
«ПРОФЕССОР. А вы представляете, что будет, когда в эту самую Комнату поверят все? И когда они все кинутся сюда? А ведь это вопрос времени! (Возвращается в комнату.) Не сегодня, так завтра! И не десятки, а тысячи! Все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры всех мастей. Этакие благодетели рода человеческого! И не за деньгами, не за вдохновением, а мир переделывать!».
И не будет же атомного паритета, как в действительности, из-за чего ядерная война всё-таки не начинается.
Но его сослуживцы, вместе сделавшие даже ядерную минибомбу, передумали: вдруг Зона – это «это часть природы, а значит, надежда в каком-то смысле. Они спрятали эту мину… А я ее нашел. Старое здание, четвертый бункер. Видимо, должен существовать принцип… никогда не совершать необратимых действий».
Сталкер, не рассчитывая на случайную мысль, способную остановить Профессора, силой хочет отнять бомбу (он же за то, чтоб Комната Удовлетворения Желаний существовала, а он к ней будет водить только хороших людей: «Я ведь привожу сюда таких же, как я, несчастных, замученных. Им… Им не на что больше надеяться! А я могу! Понимаете, я могу им помочь! Никто им помочь не может, а я — гнида (кричит), я, гнида, — могу! Я от счастья плакать готов, что могу им помочь. Вот и все! И ничего не хочу больше. (Плачет.)»).
Писатель отбрасывает Сталкера, чем приводит в изумление Профессора.
Писатель выдаёт угаданный принцип действия Комнаты: «Да здесь то сбудется, что натуре своей соответствует, сути! О которой ты понятия не имеешь, а она в тебе сидит и всю жизнь тобой управляет!».
То есть, жизнью не должен управлять проект, как ужасался о Ленине Плеханов. И как собирается сделать Профессор из якобы лучших побуждений по отношению к человечеству. Когда на самом деле он, Профессор, — сослуживец угадал, — просто хочет отмстить сослуживцу, за то, что тот двадцать лет назад переспал с его женой. И тогда не надо ни Комнату и Зону взрывать, ни самому в неё входить и что-то просить.
Жить на-до о-чень прос-то!
(Ай да Аннинский!)
А я ж сумел процитировать художественный смысл «Сталкера»… Какое ж это художественное произведение, если то, зачем оно создано, может быть процитировано?!
Так на то я к настоящему времени уже спустил планку и счёл допустимым, что автор может «в лоб» вставлять в произведение своё самое дорогое, и от этого художественность всего произведения не рассыплется.
Не нужны человечеству эти юродивые сталкеры, Данко, Ленин, уповающий сперва на скорую Мировую Революцию, а не выгорела она, так на построение социализма в одной, отдельно взятой стране. Человечество медленным шагом, ровным зигзагом без страстных доброхотов пройдёт себе, куда идётся. И путиных не надо, стремящихся не мытьём, так катаньем вернуть в какой-то ипостаси СССР. И пусть себе Россия катится спокойно и не напрягаясь зря во второсортную страну.
Потому Сталкер и юродивый, что и тут захотелось «в лоб» пнуть этих водителей в «рай».
«А если б не было в нашей жизни горя, то лучше б не было, хуже было бы. Потому что тогда и… счастья бы тоже не было, и не было бы надежды. Вот».
Казалось бы, тут-то и конец.
Но художник взыграл. Не может он «в лоб» заветным кончить.
И для того вставлена в самый конец дочка-мутант юродивого. Тоже до крайности странная. Экстремисты, музыкальный символ которых воинствующий Бетховен, не перестанут вредить обществу:
«На столе стоит посуда. Мартышка смотрит на нее — и под этим взглядом по столу начинают двигаться… сначала стакан, потом банка… бокал. Скулит собака. Бокал падает на пол. Девочка ложится щекой на стол.
Грохочет мчащийся поезд. Дребезжат стекла. Музыка все громче, наконец слышно, что это ода «К Радости». Затемнение. Дребезжание стекол».
Но от этих р-революционеров – только зло. «Затемнение. Дребезжание стекол».
Всё же опять срыв «в лоб».
Как Константин Леонтьев ещё в XIX веке говорил: «Беда не во врагах монархии, а в том, что верх над жизнью берет проект.
Социализм неизбежен и… исполнение манящей мечты обернется небывалым испытанием, но у человека нет другого достойного выхода, кроме как вынести еще и этот надрыв».
А ведь тоже, казалось бы, такой романтический человек был, Леонтьев…
Хорошо. Одно – под влиянием мещанина Тарковского переделанный в «Сталкера» «Пикник на обочине» (1972). Но, может, сам по себе «Пикник…» не антисоветский, а только по противоположности – за горячие чувства – привлёк к себе внимание Тарковского?
Перечитываю. Дошёл до мест, которых не вспоминаю. Наверно, не дочитал от скуки до конца когда-то. Ну в самом деле… Как теперешние – все на одно лицо – фильмы про бандитов. И те и Рэдрик (сталкер) не могут себе позволить «каждый грош считать» и уродуются… (Так я оцениваю их подвиги, как они обставляют полицию. И мне это не интересно.)
Но теперь я дочитал.
Доэволюционировали двое (и Рэдрик), что надо пойти в Зону за удовлетворением желания спасти. Один – отца, другой – дочь. Отцу – вернуть отрезанные ноги, дочери – человеческий образ. А кончилось тем, что оба прокричали просьбу о счастье для человечества. Так один от одного этого погиб, а другой… Остаётся неизвестным, погибнет или нет, после того, как то же прокричал.
Советские издательства и советские люди, наверно, сочли, что это трагедия: герой гибнет – его идея остаётся жить в душах читателя.
А я как-то сомневаюсь. Как-то вдруг, как рояль в кустах, вынырнул этот поворот желания. Как-то нарочито оборвана повесть. Упор – на просто неизвестность. То есть мыслима и просто недоговорённость о том, что не принято было произносить в СССР публично. Дескать, принципиально несбыточно – хотеть счастья для всех.
Ну что? Проверить ещё самого Германа, что ли? Эта его сумасшедшая картина 1998 года «Хрусталёв, машину!»… Ну сумасшедшая… Я даже могу вспомнить, что видывал такой сумасшедший дом в одной семье. Каждый раз, погостив у них день, удирал оттуда как из ада. Но чтоб так было по-всю-ду…
Публика на Каннском фестивале не выдержала и зал покинула. И её можно понять.
Нельзя понять другое. Нельзя понять тех, кто не видит тут крайнего авторского негативизма к изображённому:
«Очевидно, прошло достаточно времени, чтобы привычный документальный подход к сталинскому прошлому уступил место космическому взгляду без гнева и пристрастия» ().
Самого Германа понять нельзя, когда он говорит, что так «пишет Беккет».
Беккет не относится к изображаемому с таким омерзением.
«Абсурд учил не умирать, а жить в непонятном мире. Каждый раз, когда очередное объяснение оказывалось ложным, он подхватывал отчаявшегося человека, брошенного здравым смыслом… Персонажи Беккета уже не задают вопросов, ибо твердо знают, что ответов нет и быть не может. И все же никто из них не отказывается от жизни, лишенной смысла» (А. Генис. Билет в Китай. С.-Пб. 2001. С. 33).
У Гениса, правда, «Персонажи Беккета», а не сам Беккет. Но это просто неаккуратность выражения. Беккет не отделяет себя от персонажей. Перечитайте всю цитату. Беккет – абсурдист, а «Абсурд учил… жить».
Герман в раже говорит. Его не поняли – и он ссылается на непонятного широкой публике авторитета.
Хуже того. Он ссылается в том же тексте на идейно полярного Беккету Гоголя:
«…мы недавно пересматривали «Лапшина» — это чистая комедия, это очень смешно. «Хрусталев» через четыре года будет смешным. Просто пройдет шок от другого киноязыка и станет понятно, что это трагикомедия про нашу жизнь. Так, как писал Гоголь, как пишет Беккет» ().
В общем, нечего слушать растерявшегося от провала в Каннах Германа. Вообще нечего слушать, что говорит любой художник вне текста своего произведения. Всё он уже сказал в художественном произведении.
Другое дело, что в этом фильме Герман приблизился к границе художественности. Плохое он изображает «в лоб» плохо. Он перешёл на простое заражение вместо воздействия более тонкого.
Смотрите, он снимал кино 7 лет. Он начал в 1991-м. После ужаса катастройки и во время ужаса первых лет реставрации капитализма. А дата творения есть элемент этого творения. И – смотрите: как он фильм назвал? «Хрусталёв, Машину!» — Это первые слова Берии, произнесённые им после мига смерти Сталина.
Как кричали во Франции в минуту смерти короля? – «Король умер! Да здравствует король!» Похоже, в сущности, сделал Герман своим названием. Надо лишь чуть переиначить: «Ужас кончился! Настаёт новый ужас!». Или: «Сталин умер! Да здравствует Берия!». Или: «Кошмар социализма кончен! Настал кошмар капитализма!»
В России нет виноватых в ужасах её истории, потому что такой народ. Посмотрите на этот ежесекундный сумасшедший дом повсюду, снятый Германом. Какой народ, буйный, такая и история.
Слово «беспредел» стало широко распространённым в катастройку и в первые годы дерьмократии. А зря, собственно, — как бы говорит Герман. – Разве не беспредел ПОВСЮДУ был и при Сталине? Беспредельщик директор госпиталя нейрохирургии в стране беспредела оказывается не просто арестованным зря во времена дутого «дела врачей», но и беспредела ради отдан на изнасилование (пусть даже и не специально, но так закономерно получилось). И что, когда освобождён? Стал искать правду в суде, как это было бы западнее СССР? У кого история – нормальная?.. – Нет! Он пошёл в народ (слова Германа). Бродяжничать стал. И тут – смейтесь – я хочу сослаться всё-таки на слова Германа:
«И если хочешь знать, единственный вывод, который у меня пришёл к семидесяти годам, что во всём мире, не только в России, очень много глупых людей, и очень немного умных. Очень много дурных людей, и очень немного хороших. Повсюду. Но у нас, как ни странно, было гораздо больше умных людей, и под влиянием современного искусства, дурного, их делается меньше, меньше, меньше» ().
Всё-таки вышел на особость России!
Он не согнулся. Он надломился. И сколько есть живой связи между надломленными половинами, столько нецитируемости – но только в конце фильма, когда смотришь на этого опять счастливого героя. Осознание результата этой сшибки несчастья со счастьем следующее – счастье такого народа таки возможно – в сверхбудущем.
Как и в «Лапшине».
Герман не прогнулся перед наступившим капитализмом. То же будет и с «Трудно быть богом».


уродливая статья
Статья очень странная. Да, Стругацкие слабые стилисты. Остальное — чушь.
Уродливая статья, притом очень
А, может, аргументируете?