Наставничество и традиции
12 мая, 2013
АВТОР: Андрей Тесля
Цыганков Д.А. В.И. Герье и Московский Университет его эпохи (вторая половина XIX – начало XX вв.). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. – 256 с.
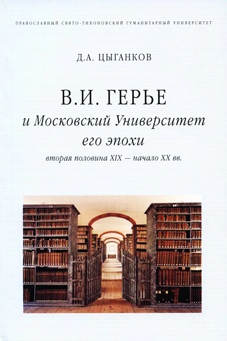
На протяжении значительной части своей истории университеты – и русские университеты в этом отношении не составляют исключения – были местами, цели и задачи которых выходили далеко за пределы собственно образовательных. Университет гумбольдтовского типа стал местом порождения и проверки нового знания, предшествующие университеты, например, такой, как Геттингенский – или, в другом отношении, такие как Оксфорд или Кембридж XVIII–XIX вв., являлись местами «воспитания благовоспитанного молодого человека хорошего общества», (окончательного) «формирования джентльмена» и т.п. История университетов с этой точки зрения – ценный аспект социокультурной истории. Но и с позиции собственно истории науки история университетов – это история «мест производства» или (в другие моменты) преимущественно «мест хранения», «мест передачи» знания, история того, как это знание формируется, включая в нее аспекты формирования научных сообществ, выработки внутренних стандартов научного знания, складывания и закрепления конкретных исследовательских и педагогических традиций (тем более, что на уровне университетского образования в том его виде, который сложился ко 2-й половине XIX века, педагогические и исследовательские моменты сложно разграничить).
О Владимире Ивановиче Герье (1837 – 1919), к сожалению, написано не очень много – и вышедшая в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) работа Д.А. Цыганкова ценное пополнение этой небольшой коллекции. Владимир Иванович практически всю жизнь был связан с Московским университетом – в результате чего его студенческая, магистерская и профессорская карьера отразила большую часть этапов эволюции главного русского университета на протяжении 2-й половины XIX в. Поступив в 1854 г., он еще застал на кафедре всеобщей истории Тимофея Николаевича Грановского, а уходя из университета в 1904 – 1905 гг. (но не порвав с ним связей вплоть до самой смерти), он оставлял плеяду учеников, которые будут определять лицо уже советской всемирной истории вплоть до 1940-х гг. – Виноградова, Виппера, Петрушевского, Щепкина и др., чьи ученики в свою очередь (в первую очередь в медиевистике, но не только) останутся вполне узнаваемым сообществом вплоть до 1960-х – 1970-х гг. Тот университет, в который пришел Герье, лишь недавно – в результате реформ Уварова и (при всем отличии позиций) его попечителя в 1840-х гг. графа Строганова – стал ориентироваться на научные исследования, за несколько десятилетий радикально изменив свое содержание. Свербеев, поступивший уже в «послепожарный» университет, в 1813 г., в возрасте 14 лет (кстати, будучи отнюдь не самым молодым из студентов тех лет), вспоминал: «В наше время можно было разделить студентов на два поколения: на гимназистов и особенно семинаристов, уже бривших бороды, и на нас аристократов, у которых не было и пушка на губах. Первые учились действительно, мы баловались и проказничали»1. Сами же занятия напоминали то ли школьные, то ли семинарские, теоретически занимая слушателей на целый день: «Тогда <в 1813 г.> на право слушания лекций выдавалась каждому на латинском языке табель, в которой по каждому факультету выставлены были с именами профессоров все предметы университетского учения, ректор отмечал в них, по собственному своему усмотрению, все предметы, слушание которых делалось для снабженного табелью обязательным. Мне на первый год предписано было постоянное посещение следующих лекций: статистики Гейма, славянской словесности у Гаврилова, российской словесности у Мерзлякова, таковой же истории у Каченовского, всеобщей истории у Черепанова, чего-то в роде риторики у Победоносцева, логики у Брянцева, латинского языка и римских древностей у Тимковского, немецкого и французского языка у каких-то басурманов, и, наконец, по собственной охоте, учился я танцеванию у Морелли. В наше время мы не имели счастия слушать ни пространного катехизиса, ни богословия. <…> Лекции начинались зимой при свечах желтых, сальных, вонючих; утренние кончались в 12 часов, возобновлялись тотчас после обеда казенных студентов в 2 ч. и продолжались до 6 ч., и это всякий день к неописанному нашему удовольствию»2. В Харькове университет был основан едва ли не обманом, когда дворянство давало деньги на открытие кадетского корпуса – и, получив в ответ университет, было настолько расстроено (едва ли не разгневано), что успокоить его удалось лишь введением курса верховой езды и подобных предметов, призванных все-таки подготовить слушателей из дворян к ожидаемой ими воинской карьере.
Университет, в который пришел Герье, был уже далек от подобных нравов и интересов – но, перестав быть странным заведением, где совместно обучались великовозрастные семинаристы, готовившиеся в «судейские крючки» или в «доктора», и малолетние дворяне, он стал местом «общего образования», «широких интересов», одним из немногих проявлений «общественности», говоря языком того времени. Грановский в своей докторской (1849 г.) «Аббат Сугерий» утверждал, что его деятельность должна исходить из «существенных потребностей русских читателей»: если немецкие профессора могут посвящать себя специальным исследованиям, то в России у них нет права на подобную «ученую роскошь», когда отсутствуют и оригинальные, и даже переводные работы по истории «главных народов древнего и нового мира». Тем самым Грановский представлял деятельность профессора в первую очередь просветительской – что и отражалось на его учебных курсах и на публичных лекциях (которые отличались от курсов в первую очередь мастерством отделки, но не содержанием). Впрочем, отметим, что такой подход встретил уже тогда возражение со стороны петербургских коллег в лице М.М. Стасюлевича, напоминавшего, что «наука везде остается наукой» — и что потребности места могут сказаться на деятельности профессора, но не могут (или, во всяком случае, не должны) вести к изменению понимания науки и ее требований3.
Герье окажется промежуточной фигурой – от «просветителя» Грановского к куда более герметичным по духу и ориентированным в своей деятельности в первую очередь на собственную корпорацию, а не на широкую публику своим ученикам и их продолжателям: его исследования и курсы будут рассчитаны на «интересующихся», он будет выбирать темы и широкие, и проблемные – к тому же предполагающие некую эстетическую завершенность. К какой бы теме он не обращался, он рассчитывал на читателя/слушателя, только начинающего входить в эту область знания – его докторская, посвященная Лейбницу, оказывается попыткой через фигуру немецкого философа рассмотреть основные сюжеты интеллектуальной, а отчасти и политической жизни второй половины XVII – начала XVIII вв., исследования о Французской революции или, например, об историографии оказываются проблемными очерками, хорошо фундированными эссе, работа о блаженном Августине – скорее восполнением отсутствующих русских переводов многих из его текстов, так что временами кажется, что перевод на русский, например, эпистолярии латинского святого был бы на 1/2 заменой работы Герье. Но подобное «просветительство», в отличие от Грановского, не единственная и даже не главная черта деятельности Герье – одновременно с общими курсами и популярными работами он создает в университете семинарий (первый на историческом факультете), где, опираясь на опыты своего наставника с филологического отделения, Павла Михайловича Леонтьева, и на опыт собственного участия в семинариях немецких профессоров, создает школу, формирующую навыки как работы с источниками, так и проблемного подхода. Именно в рамках семинария Герье сложится его исследовательская школа – где он будет формировать из студентов исследователей и, отмечая способных, отбирать их для дальнейшей научной работы: многие историки, окончившие Московский университет, будут отмечать роль этого семинария. В числе их будут и те, для которых дальнейшая научная работа окажется связана с вопросами отнюдь не всемирной, а русской истории: дело в том, что Герье удавалось учить исследовательской работе – а семинарий Ключевского, при всей его ценности, оказывался скорее приложением к лекциям выдающегося историка: на нем можно было восхищаться наставником, но трудно было выучиться методологии исследования.
Отметим также, что переход от «просветительства» к «научным исследованиям» не был для «школы Герье» радикальным: и для «московской школы» некоторая «публицистичность», ориентированность на «широкого читателя» оставалась свойственна в значительно большей мере, чем «петербургской», старательно культивировавшей монографизм. Сам Герье ценил в работе наличие «общих вопросов», выход за пределы строгой фактографии – как мы бы сказали сейчас, считая, что подлинное исследование должно быть концептуальным, в противном случае оказываясь «материалами к…», а не научной работой, имеющей самостоятельную ценность.
Присутствующие в книге агиографические нотки портят ее не особенно сильно – исследователю, посвятившего себя изучению какого-либо исторического лица, свойственно ему симпатизировать (что, на определенной стадии исследований, нередко переходит в свою противоположность – вспомним характерный случай Мартина Малиа, посвятившего полтора десятилетия изучению жизни и взглядов Александра Герцена и, после завершения его биографии, старательно избегавшего обращения к прошлому персонажу, а в самой биографии отзывавшемся о нем с трудно сдерживаемым раздражением). Агиографичность в данной работе плоха тем, что авторские ремарки прямо противоречат приводимым свидетельствам, либо последние игнорируются в авторских оценках – в результате чего возникает конфликт между излагаемым в тексте и авторской позицией, повисающей в странной свободе от материала. Владимир Иванович был тяжелым и, увы, зачастую весьма неприятным человеком – история его конфликтов говорит сама за себя, равно как и тот печальный факт, что сильных учеников он рядом с собой не выдерживал: не случайно любимым его учеником оказался М.С. Корелин, отличительными положительными чертами которого можно назвать разве что феноменальную усидчивость и трудолюбие, П.Д. Виноградову удавалось избегать конфликтов разве что в силу совершенно «не русской» корректности поведения и умения не попадать в ситуацию, когда придется однозначно прояснять свою позицию по университетским делам в тех случаях, когда конфликт с бывшим наставником был весьма возможен (характерно как Виноградов фактически уклонился от активного участия в «историческом обществе» при университете, понимая, что Герье не потерпит конкурента – и тем самым общество, вполне предсказуемым для других участников образом, свелось к «личному делу» Герье). Милюков, также бывший учеником Герье, пусть «зло и бестактно», по оценке автора, но от этого, как ни жаль, не менее верно сформулировал, что профессор «боялся, чтобы кто-нибудь не узнал того, чего он не рекомендовал, – и не знает. В последнем многие из нас убедились, когда, уже будучи оставлены при университете, готовились к магистерскому экзамену».
Уважение к заслугам, к трудам Владимира Ивановича может смягчать формулировки – но не избавлять от оценок, поскольку в противном случае получается рассказ о другом человеке: история не рассказывает нам о героях, свободных от упрека (такие персонажи бытуют лишь в эпосе и в нравоучении), но о героях, являющихся героями несмотря на слабости – о больших людях, остающихся таковыми при всех своих недостатках. Ведь понимание последних как раз и придает понимание их поведению – многогранному, сложному, объясняет, как Владимир Иванович, создавший Высшие Женские курсы, оказался, например, тем не менее забаллотирован своими же коллегами и вынужден был уйти с них в начале XX века – коллегами, которые вполне признавали и ценили его заслуги. Последняя история особенно показательна: Герье любое дело воспринимал как свое собственное в смысле «личное», историческое общество фактически не отделял, например, от домашнего семинара – отличавшегося лишь по числу участников, но никак не по способу функционирования. Это было продуктивно на первых порах – но чем более успешно было начатое им дело, тем скорее оно перерастало отношение создателя, которое не менялось – и чтобы начатое могло жить далее, имело шанс пережить основателя или даже продолжиться за пределами угасания его энтузиазма, оно должно было отрываться от него.
1.Свербеев Д.Н. Записки. Т. I. – М., 1899. С. 86.
2.Там же. С. 84 – 85.
3.То, что подобный взгляд был высказан петербуржцем, не случайно – Петербургский университет, связанный с Академией, куда в меньшей степени был местом «общественной мысли» и проявления «общественных настроений», приближаясь к образу «строгой науки».

