Джулиан Барнс: человек, пришедший после…
25 июля, 2016
АВТОР: Ирина Вишневская
Размышление о новом романе Джулиана Барнса «Шум времени»
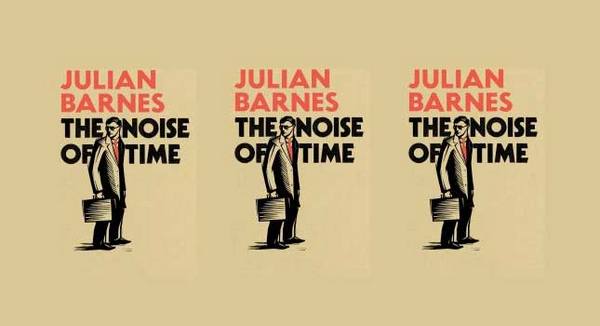
В одном из ранних романов известнейшего английского новеллиста Джулиана Барнса «Попугай Флобера» рассказчик делится с читателем не только любовью к Флоберу, не только своим пристальным интересом к флоберовской художественной среде. К эпохе бурной, противоречивой, вырастившей одновременно цветы зла и внезапную флоберовскую чуткость к стыдливо спрятанным от мира человеческим слабостям. Слабостям порой преступным и побиваемым камнями.
Делится своим удивлением перед загадкой личности Флобера, писателя неуживчивого и нетерпимого к собратьям по перу, притягательного и отталкивающего, непостоянного страстного любовника, страстно ищущего постоянство в дружбе.
В траченной молью ветоши, в руинах материального, избегнувшего грубой подделки, во всём, что окружало подлинного Флобера, Джулиан Барнс пытается найти разгадку, в чём состоит моральная сила художественного влияния Флобера. Натуры уходящей. Ускользающей.
Как понимает человечество шум его времени?
Джулиан Барнс – художник очередного «перелома века», неизменно знаменующего приход модерна. Не постмодерна и не пост-постмодерна, или другого вида, строго упорядоченного знатоками истории творческой природы – будь то живопись, книга или музыка.
Для Пушкина Фёдор Иванович Тютчев тоже был модернистом, поэтом нового времени, и он принял его с недоверием, в числе менее известных нам, благодаря своей уникальной интуиции.
Герой Барнса читает Флобера, дышит его воздухом и видит его глазами человека «Пришедшего После», желая «понять умом», что именно происходило тогда в жизни чувств, что питает творца. Желая постичь смыслы прошлого, «ускользающего от нас, как бегущий поросёнок ускользает от своего преследователя», – пишет в своей статье в интернет-журнале «Музыка и Литература» известный английский музыкальный критик Полина Фейрлоу о новом романе Джулиана Барнса «Шум времени».
Когда-нибудь в будущем музыка Шостаковича, неприступная и непонятная многим – дитя больного времени, современница сталинизма, – станет для нас просто музыкой, а не музыкальной темой, частью нашей «искривлённой памяти».
Точно так, как музыка Бетховена, в своё время – звучащий пульс революции наполеоновского времени, – для нас сейчас великая музыка Бетховена.
Собственно, уже давно для музыкантов – Шостакович – это великая музыка… Для многих политически озабоченных русских – Шостакович и его судьба – всё ещё родимое пятно сталинского наследия, бередящего их прекрасные, но легкие сердца.
Пресса на Западе который месяц озадаченно и восхищенно шумит о том, почему британский писатель Джулиан Барнс, автор длинного ряда романов о душевных культурных и исторических связях двух европейских стран, о новом взгляде на викторианское поколение, о Конан Дойле как о великом гуманисте, о новой сексуальности в застёгнутой наглухо Британии, о том, как надо смотреть искусство, как не надо бояться смерти, не бояться ничего того, что дышит подлинностью. Почему он взялся за эту щемящую тему?
До сей поры Барнс – уникальный открыватель подлинных чувств. И вот – Шостакович – уходящая натура советского времени, не оставившая обильных свидетельств друзей и друзей друзей. Натура чувственная и сверхчувствительная. Закрытая от вящего любопытства – и красноречивая своей музыкой, природа которой понятна не всем даже сейчас.
Даже таким психологам, как англичанин Барнс.
Прикасаясь к теме Росси и, не поддающейся мерилам общим, Барнс невольно надевает «одну из своих многих шляп», теряет чувство юмора, теряет свою знаменитую тонкую иронию, заболевает фантомной болью журналиста, прочитав массу написанного во времена, когда правда и ложь, подлинная жизнь и искусная пропаганда были почти неразличимы, а печатные источники уязвимы.
Но остались записки, обрывки писем, забытые и найденные вновь. Сохранившие тонкий, но подлинный аромат старых духов.
И всё же , как это часто случается, обаяние зла превалирует.
Лишенный собственной иронии, Барнс отказывает своему новому герою в свойственном его таланту чувстве юмора, порой граничащем с сарказмом. Не видит в нём несломленной внутренней свободы, решившей за него трудный вопрос компромисса силой его знаменитой отстраненности, его стойкой художнической воли? Необычайно мощной для такого болезненного и слабого тела.
Люди, лично знавшие Шостаковича, его друг Исаак Гликман, Иван Иванович Соллертинский, знаток многих сюжетов за пределами не одной только музыки, сохранившие изрядную часть подлинного материала, свидетельствовали о том, что Дмитрий Дмитриевич в напряженные и странные романтические события его молодой жизни создал чуть ли не самую радостную музыку из многого им написанного.
Со своими друзьями он рассуждал о многозначительности лесковской героини. О ханжестве, убивающей любовь, о подавленной человеческой страсти. А значит – о свободе.
При нём и с ним вместе жизнь довоенного Ленинграда фонтанировала невероятно насыщенная музыкальная, всех жанров. Никто не видел его сломленным и даже убитым в это страшное время. Как он мог выжить и дать всему миру горькую радость услышать во время войны трагический музыкальный аккорд Седьмой Симфонии, не будучи внутренне безгранично свободным, ироничным, а часто и саркастичным человеком?
Об этом можно было узнать из книги Соломона Волкова «Свидетельство», из книги Элизабет Уилсон, собравшей многочисленные клочки мемуарных свидетельств. Много ли людей, точно так же носивших в груди тяжкий камень страха, совершили подобный подвиг? Многие нам неизвестны, их нет, но от страданий были.
А Шостакович жив, и даже стал героем современной английской повести. Неудачной. Но о ней можно и нужно рассуждать.
Читая её, трудно составить впечатление о том, из чего же всё-таки родилась музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, наследница музыкальных гениев Вены, Парижа, Берлина, музыки Мусоргского, Чайковского. Став музыкой мирового масштаба, свидетельницей страданий и стойкости эпохи. Из его постоянного страха перед сталинскими обысками, арестами, перед местью подлых коллег? Из навязчивых трамвайных звонков, тесноты коммуналок, оскорбительного лукового и селедочного запаха газетной брани?
Нет, она родилась из Шума Времени.
Ирина Вишневская высокопарно размышляла.


Бедный Шостакович, статья в «Правде» по поводу оперы «Леди Макбет Мценского уезда» под заглавием «Сумбур вместо музыки» он еще мог понять. Но советские публичные порки его репутацию не портили, исполнялось все, что он сочинил, и в СССР и за рубежом! Награды, житейские блага, почтение от рядовых музыкантов до политической верхушки… Разумеется, все идет с переменным успехом, но это нормальная жизнь композитора-новатора, она не может быть гладкой.
Но вот Шостакович отошел в мир иной, стал признанным везде без исключения КЛАССИКОМ, Бахом ХХ века. — И тут какой-то мелкий публицист из Англии вдруг хамски, самыми грязными средствами, выливает на него, его время, его коллег, ушат грязи. При этом даже не заботится о правдоподобии, нагло проговаривая: «Я конечно все это выдумал, но с Шостаковичем, трусом и двурушником, вполне это могло быть». Каково? Где уж тут советской пропаганде, оплеванной и униженной, равняться с таким гигантом лживой современной пропаганды, как Барнс! Его клевету и грязь с восторгом поддерживает вся западная пресса, а наша — стыдливо молчит, никаких рецензий или заметных выступлений я так и не заметила. Информационная война с Россией, как бои без правил, без морали и почтения к признанным авторитетам и гениям, ведется ЗАПАДОМ — провозглашающим какие-то общепризнанные общечеловеческие ценности. КАКИЕ?!.
«Чисто английское убийство»
Хоть князь, хоть лорд — одно лицо.
Пусть лет пройдет еще пятьсот,
он будет есть чужих детей,
ведь власть ему всего милей.
Он будет пить сырую кровь —
Не дрогнет самообладанья бровь.
Ведь убивать его забота —
то «бизнесом» назовет кто-то,
«охотой к перемене мест».
И шар земной одев на шест,
Он ставит подпись по-английски:
«Где власть — там право на убийство».