Михаил Лермонтов: Боль и грезы. Очерк по вершинной психологии (3)
12 июня, 2020
АВТОР: Дмитрий Степанов
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ.
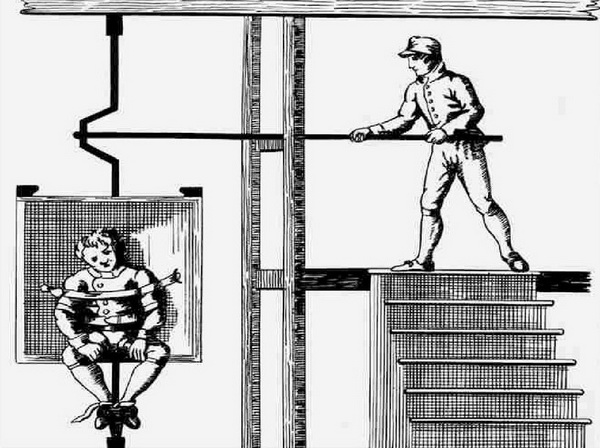
Если Владимир Соловьев усматривал в бесконечной погруженности Лермонтова в свой внутренний мир непременное условие его пророческого дара, первые психологи, обратившиеся к изучению личности и творчества поэта, увидели в ней болезненный симптом, свидетельствовавший о душевном расстройстве. Так, Д. Н. Овсянико-Куликовский констатировал: “… перед нами психологическая картина, свидетельствующая о постоянном и упорном самоуглублении, о вечно бодрствующей рефлексии, даже о раздвоении личности (“душа проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка”). Это уже выходит за пределы нормы — даже и для натур эгоцентрических. Когда человек, которому от роду всего 25-26 лет (в этом возрасте работал Лермонтов над романом), предается столь интенсивному самоанализу и думает, что достиг высшего “самопознания”, — мы вправе видеть здесь симптом болезненного развития души”.
Предпосылки анализа психологии Лермонтова, предложенные Овсяннико-Куликовским, были развиты первыми советскими психоаналитиками и психиатрами. Забавно, что при всей чуждости своих методологических подходов все они, как один, в своих опусах цитировали эссе о Лермонтове, сочиненное религиозным мыслителем Соловьевым. Не могу не заметить, что психиатры, аргументирующие свои выводы свидетельствами душевнобольных богословов, вызывают у меня неподдельное восхищение.
В “Клиническом архиве гениальности и одаренности”, издававшемся Сегалиным в 1925-1930 годах, поэту была посвящена статья М. Соловьевой “Лермонтов с точки зрения учения Кречмера”. Название публикации сразу дает понять в прокрустово ложе какой концепции будет уложен поэт. Задавшись целью “объяснить некоторые особенности его творчества, считающиеся загадочными и спорными”, Соловьева начинает с характерного заявления: “Признание Лермонтова поэтом-лириком уже предопределяет его положение в группе шизотимиков”. Иными словами, он безумен уже потому, что он поэт (сравните с утверждением С. А. Андреевского, что Лермонтов — мистик уже потому, что он поэт). Над этим мифопоэтическим тезисом смеялся уже Фридрих Шеллинг в своем ироническом шедевре “Ночные бдения” (1804 г.): “… нынешняя эпоха привыкла вместе с Платоном считать поэзию безумием с той только разницей, что первый возводил ее происхождение к небу, а не к сумасшедшему дому. Что ни говори, поэзия сегодня всюду — дело сомнительное, ибо безумцев осталось слишком мало, а разумных столько развелось, что они своими силами способны заполнить все области деятельности, не исключая поэзии, и настоящему полоумному, как, например, мне, больше некуда податься”.
Но в том то и дело, что психиатр Соловьева предельно серьезна, в ее утверждении нет и тени иронии. Мифопоэтическое представление о поэте как о “священном безумце” выражается в ее высказывании совершенно бессознательно. Нельзя не согласиться в этой связи со словами Ирины Сироткиной из ее работы “Классики и психиатры. Психиатрия в российской культуре конца XIX-начала XX века”: “Как это ни странно, медицинские биографии гениев часто исходят из романтической концепции творчества — идеи о том, что творчество по своей иррациональности, спонтанности, стихийности сродни болезни. Это все еще зажигающая воображение читателя идея восходит к древнегреческому мифу об “энтузиазмосе” — огне, который боги посылают своим избранникам. Те, кого коснулся божественный огонь, становятся пророками и поэтами”.
Мифологический характер имеет и воспроизводимая Соловьевой идея Кречмера, что гений рождается от союза большого таланта (по отцовской линии) и безумия (по материнской линии). Эта устойчивая мифопоэтическая связь мужского начала с рациональным, а женского — с иррациональным лишний раз подчеркивает всю спекулятивность психиатрических концепций подобного рода.
Пытаясь обосновать свой диагноз, Соловьева приводит негативные свидетельства современников о Лермонтове, игнорируя противоположные им воспоминания, положительно характеризующие поэта: “С самого раннего детства в нем проявляются черты, которые считаются наиболее характерными при развитии шизоидной личности, как то: жестокость (он любил мучить животных, нередко был груб), наряду с этим необычайная доброта и чувство справедливости, страсть к разрушению, раздражительность, капризность, упрямство, гиперфантазирование, раннее развитие и болезненная чуткость души. Несмотря на то, что детство Лермонтова протекало в благоприятных условиях (он рос, окруженный любовью, лаской и заботами), в нем рано пробуждается недовольство жизнью, склонность к уединению, чувство одиночества, сознание собственного превосходства и отчужденности. С другой стороны — окружающая обстановка: чрезмерная любовь бабушки, богатство, потворство всяким капризам — способствовали еще большему развитию указанных выше черт. Жизнь в себе, аутизм, — основная черта для шизоидов — у Лермонтова ярко бросается в глаза чуть не с колыбели. Первый конфликт с жизнью (раздоры между бабушкой и отцом, смерть отца), падающий на период полового созревания, служит толчком к тому, что Лермонтов окончательно замыкается в себе и становится для окружающих человеком непонятным, таинственным, странным, эксцентричным, оставаясь таковым до смерти”. Но даже в этих тенденциозно подобранных свидетельствах Соловьева путается и противоречит сама себе.
Ответственный психиатрический подход к личности и творчеству Лермонтова не дает никаких ключей к его тайне. Характерно, что в упоминавшейся выше монографии Ирины Сироткиной отдельные главы посвящены Пушкину, Гоголю, Толстому и Достоевскому, но не Лермонтову. В перечне патографий, включенных в работу В. П. Эфроимсона “Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности”, Лермонтов не упомянут, хотя А. С. Пушкину здесь посвящены две статьи, продиагностированы Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Г. И. Успенский, Ф. И. Тютчев, Д. И. Писарев, В. М. Гаршин, А. К. Толстой и даже К. И. Чуковский. Видимо, Эфроимсон вполне отдавал себе отчет в том, что: “При оценке психических состояний, да еще по литературным источникам прошлого века, можно легко зайти в тупик, произвольно подгоняя факты под свою схему”. Нет очерка о Лермонтове и в сборнике патографий О. Ф. Ерышева и А. М. Спринца “Личность и болезнь в творчестве гениев”, хотя здесь есть статьи о Пушкине, Батюшкове, Гоголе, Достоевском, Некрасове, Хармсе.
И только в энциклопедии патографий “Безумные грани таланта” А. В. Шувалова присутствует очерк о Лермонтове, созданный по лекалам статьи Соловьевой. Психиатр-нарколог приводит ряд негативных свидетельств о поэте его современников и, конечно же, цитирует Вл. Соловьева. Тенденциозно подобранные цитаты завершаются таким вот диагностическим перлом: “Можно согласиться с теми авторами, которые находили у Лермонтова черты шизоидной психопатии. Соматическое неблагополучие, фактическое отсутствие родителей в детстве, гиперопека и уродующее личность воспитание бабушки, усугубленные внешней “некрасивостью” и обусловили развитие шизоидного расстройства личности. Не только все основные (и лучшие!) произведения Лермонтова овеяны холодным ветром Танатоса, но и вся его жизнь прошла под этим знаком. Поэт искал раннюю смерть и нашел ее”.
Разумеется, к свидетельствам, которыми оперирует Шувалов, можно подобрать цитаты из воспоминаний современников поэта, характеризующие его совершенно иначе, но дело даже не в этом. Укладывая Лермонтова в прокрустово ложе своего диагноза, Шувалов забывает об одной из существенных особенностей шизоидов — об отсутствии у них эмпатии. Хрестоматийная истина, удачно высказанная еще Петром Ганнушкиным: “Особенно трудно шизоиду проникнуть в душевный мир других людей, гораздо труднее, чем, наоборот, — быть понятным ими”. Лермонтов же был глубоким эмпатом, проницательным психологом, умевшим “читать” людей. В отличие, например, от его британского кумира Джорджа Байрона, не только чуждого сопереживанию, но и бравировавшего своим равнодушием к людям. Байрон мог “переживать” за всех британских ткачей и за весь порабощенный греческий народ, но не за собственную умирающую мать или пятилетнюю дочь Аллегру, скончавшуюся в монастыре, в сущности, от тоски по родителям.
Известно, что Лермонтов был проницательным психологом, любившим анализировать поведение людей. Один из его современников Ю. Ф. Самарин вспоминал: “Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве… Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял: ничто не ускользает от него; взор его тяжел, и его трудно переносить. Первые мгновенья присутствие этого человека было мне неприятно; я чувствовал, что он наделен большой проницательной силой и читает в моем уме… Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами…” Такая проницательность невозможна без глубокой эмпатии.
Психологические познания Лермонтова выражались не в том отвлеченном аутистическом доктринерстве, которое характерно для творчества аналитиков-шизоидов (таких, например, как Людвиг Витгенштейн или Вадим Руднев), а во вполне действенной системе поведения, позволявшей ему манипулировать людьми. Лермонтов делал это настолько блестяще, что О. Г. Егоров, проанализировав поведение поэта в монографии “М. Ю. Лермонтов как психологический тип”, отнес его к типу “интуитивного экстраверта”. Лермонтов — экстраверт! Казалось бы, к такому выводу не придешь, даже притворившись слепоглухонемым, и тем не менее. “Любил с начала жизни я / Угрюмое уединенье, / Где укрывался весь в себя, / Бояся, грусть не утая, / Будить людское сожаленье”, — это, конечно, слова экстраверта. Конечно… Или вот это свидетельство А. В. Дружинина о Лермонтове: “Во всех (рассказах о детстве Лермонтова — Д. С.) ребенок Лермонтов изображается нам сосредоточенным и мечтательным (мы видим, что у него даже была воображаемая подруга с голубыми глазами и розовой улыбкой!), умеющим находить наслаждение в одиночестве и недовольным, когда что-нибудь отрывало его от уединенных прогулок. Как все дети с подобным развитием, Лермонтов долго был нескладным мальчиком и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, не мог отделаться от застенчивости, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов”. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

