«Зефирный поэт»
3 марта, 2010
АВТОР: Grapemile (Павел Терешковец)
По ночам, когда я пишу стихи, в моей комнате горит тусклая лампа. Бумага нагревается, и в некоторых местах чернила текут. В доме бывает душно. В этих широтах летом очень жарко и влажность воздуха довольно высокая. Мой дом стоит в одиноком поле, и я имею привычку настежь открывать окна. Снаружи на них висят москитные сетки светло-зеленого цвета, но один или два комара обязательно как-то умудряются проникнуть в дом, чтобы мешать мне сосредоточиться и летать где-то возле левого уха. Они никогда не садятся на тебя, а просто летают вокруг да около, пока ты не начинаешь психовать и, чтобы успокоиться, не выпиваешь пинту прохладного пива из холодильника. Когда я включаю свет, чтобы обнаружить их и прибить мухобойкой, сплошь покрытой красными пятнами, они будто исчезают, испаряются. Поэтому я довольно давно решил не тратить попусту время и не включать свет, а просто идти к холодильнику, выпивать пиво и снова садиться за работу, за свои стихи. Да и к тому же, свет меня самого сбивает с толку, навевает какое-то будничное, что ли, настроение, которое, в свою очередь, не дает мне настроиться на нужный лад, чтобы писать дальше.
Стихи у меня, конечно, выходят средней паршивости, но моему издателю они нравятся и за них он платит неплохой гонорар, которого вполне хватает, чтобы вести хозяйство в этом большом пустом доме и чтобы в холодильнике всегда была выпивка. Мне этого, впрочем, хватает. Я никогда не был особо притязательным и желал вести размеренную жизнь. И вот, сорок лет спустя, я, кажется, этого добился.
В новостях обо мне не пишут, интервью не берут. Хотя, если хорошенько вспомнить, то на самой заре моих публикаций ко мне пришел один очкарик из местной газеты и стал выведывать мои планы на будущее. Тогда я ему сказал, что мне нужен одинокий дом в одиноком поле, но он не поверил, решив, что я прибедняюсь и спекулирую. Но я был честен, как со своей бывшей, когда заявил, что ее грудь меня больше не возбуждает. И этот очкарик, подобно моей бывшей, так же встал, так же откланялся, просил его извинить и тихонько закрыл за собой дверь. В тот день я решил, что статья обо мне выйдет дерьмовая, что после такого ухода очкарик не сможет написать ничего путного. И знаете что? Статья действительно вышла дерьмовей некуда. Меня выставили нелюдимом-одиночкой, чуть ли не психом-отшельником, который мечтает о затворничестве в канализационноподобной конуре. В этом, разумеется, тоже был свой шарм, но я не до конца понял эту шутку юмора и даже не сохранил статью, пустив ее в качестве расходного материала для обертывания таранки.
Да и что говорить, может, тот очкарик из местной газетенки был на самом деле прав. В конце концов от меня отвернулись все, все без исключения. Жена бросила, детей не видел уже лет восемь, друзья отвернулись как по команде сразу после того, как прочитали наброски моего так и не опубликованного романа, в котором я всех описывал такими, какими они были в жизни, что им, собственно, и не понравилось (стоматолог понял, что он всего лишь стоматолог, до инженера дошло, что никем другим ему в жизни не стать, воспитательница из детского сада уразумела, что вплоть до самой пенсии ей придется нянчиться с детьми и по местам расставлять горшки; в общем, не всех прельщало, когда о них писали правду). Это было довольно странно наблюдать, как с каждым днем у тебя становилось все меньше точек опоры в виде друзей и знакомых. Сначала они начинали сухо с тобой разговаривать, потом просто здоровались, а затем и вовсе переставали снимать трубку. Каждый раз, как кто-то не подходил к телефону, я вычеркивал его имя из своей адресной книги. Спустя пять лет в ней не осталось ни одной не вычеркнутой записи, и именно тогда я понял, что остался один. Не знаю, почувствовал ли я облегчение или горечь утраты, но жизнь изменила свое русло необратимо и пути назад уже не было. Я не горел желанием заводить новые знакомства и поэтому – как и мечтал с самого детства — собрал все свои накопления за долгие годы работы гробовщиком в городском магазинчике с незатейливым названием «Гробовое молчание», сторожем в близлежащем лесном хозяйстве, грузчиком в супермаркете, кассиром захудалой кофейни и бездарным поэтом у одного-единственного издателя – и купил себе этот самый огромный особняк. Когда агент в первый раз завел меня в дом, я немедленно почувствовал одиночество и пустоту, исходившие от стен, пола и потолка этого особняка. Я ощутил такое родство с этой постройкой, что просто не мог отказаться от ее покупки, и, внеся необходимый первоначальный взнос, в ту же ночь остался там – в этих неровно поклеенных обоями стенах среди пустынного поля, с четырех сторон плотно окруженного сосновым лесом.
Это был седьмой дом, который мне предложило агентство. Показывавший мне все эти дома агент выглядел не по годам старо, грубые и глубокие морщины въедались в его лицо, по которому было видно, что человек давно не расставался с бутылкой. Тем не менее, ни на одной из наших встреч я не заметил, чтобы он был хоть чуть-чуть подвыпившим. От него немножко тянуло спиртом, но не более того. Это был среднего роста довольно упитанный мужчина. Каждый раз, когда он протягивал мне очередной паспорт на дом (сделать это он успел, как видите, всего семь раз), я замечал, что его правая рука еле заметно дрожит, но кончик листа от этой небольшой дрожи в начале ходил ходуном, и агент немного тушевался. Тогда он нетерпеливо всучивал мне все эти бумаги, подавая листки прямо в руки, так, чтобы я быстрей их взял и чтобы они перестали трястись. Я делал вид, будто ничего не замечаю, но нелегкая жизнь агента была для меня очевидна.
В этом небольшом городке всегда было тихо, здесь практически никогда ничего не происходило. Родился я в самом большом городе этого штата, но когда жена забрала детей и уехала в Вирджинию, в мегаполисе меня больше ничто не держало, и я решил уединиться в Луисвилле – тридцать миль на север от моего бывшего места обитания. Нет, это не тот Луисвилль, который в Кентукки. Наш Луисвилль был гораздо западнее и меньше, о «Кентуккском дерби» здесь никто и не слыхивал. Переезжал я не так охотно, как вы можете подумать, но хотелось что-то изменить, и начать я решил именно с переезда. Тем более что тридцать миль – это, в конце концов, не так уж и много. Климат тот же, тот же ландшафт, те же люди, только не такие надрывные, не такие хмурые и чаще улыбаются. Спокойно пожить в Луисвилле я успел лишь пару лет, а потом, когда по телевидению показали мое единственное в жизни интервью, после которого ведущий телепередачи «Литературные изыски» пришел к выводу, что – не стань я поэтом, я бы обязательно занялся проповедью сатанизма или растлением маленьких девочек – все жители города стали относиться ко мне с недоверием и даже в бакалейной лавке продавец перестал по воскресеньям подкладывать мне в покупки лишний пакетик со специями (каждый раз был иной аромат), приговаривая: «Теперь попробуйте этот. Он просто отменный». Но я привык к такому отношению окружающих и, если бы не моя наблюдательность, вряд ли бы заметил какие-либо изменения. Моими верными друзьями оставались лишь книги по вечерам и стихи моего сочинительства по ночам.
Несмотря ни на что, я всегда считал себя везунчиком: работать гробовщиком, сторожем или грузчиком мне вовсе не хотелось, а мало-мальски успешные рифмы и образы приносили мне постоянную прибыль. В любом случае, на недостаток денег я никогда не жаловался.
Для меня всегда было загадкой, почему мой издатель с такой охотой публикует мои стихи в своем журнале «Литрэчэ бит», а иногда – когда я долго не наведывался к нему в гости и приносил потом кучи исписанных листов – он с пылом брался за работу и издавал небольшие брошюрки, где в аннотации обязательно указывал, что это именно он открыл сию восходящую звезду зефирной поэзии (да-да, он именно так ее и называл) – Джесси Квинстена. Я не был против такого подхода и тоже брал лишнюю брошюрку себе на память. Не знаю, покупал ли их кто-то. Возможно, психи и не гнушались оставить пару долларов в копилке, чтобы вечером разочароваться в моем вероятно все-таки пропитом таланте. Я предполагал, что по утрам мой издатель садится на свой довоенный велосипед (на нем успело поездить три поколения, но уход был таким тщательным, что рама блестела до сих пор) и разъезжает на нем по городу, кидая мои брошюрки на порог ко всяким неудачникам и просто хорошим и образцовым семьям. Кроме того, я подозревал, что для своего издателя я – нечто вроде кумира. Что ж, это было вполне вероятным, хотя поначалу, честно сказать, я не до конца был уверен в его ориентации, думал, он хочет меня сцепить и трахнуть в каком-нибудь грязном переулке. Его ухмылка попахивала извращенством, но сам он был парнем добрым и в жизни и мухи не обидел.
Когда торговый агент первый раз привел меня в этот дом, стояла сырая погода, везде зардели небольшие лужицы, повсюду грязь мешалась со щебнем. На агенте были ношенные не один сезон кроссовки «Адидас», и я поинтересовался, не промокают ли они. Он задумчиво посмотрел на кроссовки и многозначительно протянул: «Ожоги третьей степени… Я их давно не чувствую».
О порог обив нашу обувь от грязи, мы вошли в дом. Агент провел меня по всему первому этажу, показал огромную столовую, большой просторный зал, несколько комнат и удивительно светлую и уютную ванну. На второй этаж он подниматься не стал, сославшись на боль в правом колене, и я пошел сам. Там было четыре комнаты и одна запертая кладовая. Не спускаясь, я спросил у агента, где ключ от кладовой, и он громко ответил, что наверно придется дверь взламывать, потому что ключей не было ни у него, ни у прежних владельцев дома. «Возможно, там гора мертвых детей», — подумал я, но решил не ломать дверь, а так и оставить ее нетронутой, в целости и сохранности.
Из Луисвилля я уехал, так ни с кем и не попрощавшись. Только на пороге у магазина бакалейщика я оставил свой маленький томик с личной подписью. Вещей у меня было немного, да и то большая их часть – это были книги да журналы. В тот день ярко светило солнце, и я на секунду засомневался, правильно ли делаю, что съезжаю отсюда, из этого милого городишки. И если рассудить, то и люди здесь не были такими уж засранцами, просто им забили мозги всякой телевизионной требухой и они купились. Но в нашем штате отродясь все были такими доверчивыми и безоговорочно верили слухам из уст любой старушки из дома престарелых. Таков был закон жизни, закон выживания большинства из тех, кто населял эту бесплодную землю, и пытаться тут что-то изменить было бы просто наивным. Но вспомнив францускую лоджию с пестрым гербарием и вид на огромное поле, я отбросил все сомнения, взял такси, забил все заднее сиденье своим хламом, и мы уехали из города.
Обжился я на новом месте быстро. Камин горел практически целые сутки, потому что осень пришла быстро и я не успел как следует утеплить окна, а потом и вовсе про это забыл.
Стихи я писал на втором этаже. Одна комната, которая выходила на юго-запад, мне нравилась почему-то больше остальных. Может, потому что в ней всегда было больше света, но ведь писал я все равно ночью и свет тут вряд ли имел какое-нибудь значение. Допускаю, что предметы в ней – небольшой и твердый диван с грубой зеленой обивкой, кожаное кресло с потертой спинкой, дубовый стол на рельефных ножках и даже картина неизвестного художника, на которой был изображен закат в какой-то чудной стране, — все это, возможно, каким-то образом располагалось так, как того требовали правила фен-шуй. От этих заморочек я был, правда, далек, но мне просто нравилась эта комната, и сочинительствовать в ней было довольно легко.
Я как обычно сидел за столом, и горела тусклая лампа. Мне нужно было написать новую главу для поэмы про Летучего Голландца (издатель обещал заплатить вдвое больше обычного, если я вплету туда еще и какую-нибудь любовную историю), но ничего не приходило мне на ум, как вдруг я услышал стук в парадную дверь. Кто-то трижды совершенно отчетливо постучал в дверь, вместо того чтобы воспользоваться звонком (на нем стояла очаровательная соната Баха и втайне я всегда мечтал услышать ее, когда кто-то позвонит в дверь, но никто не являлся, и поэтому по утрам я, выходя на крыльцо, всегда сам пару раз нажимал на звонок, чтобы прослушать изумительные утренние ноты великого композитора). Сначала я испугался, взглянув на медные часы, висевшие в коридоре второго этажа: я в недоумении стал перебирать в уме всех, кого знал и кто мог бы заявиться в такую глушь в три часа ночи. Никаких адекватных идей мне в голову не пришло, и, захватив на всякий случай домкрат от своего старенького «Доджа», валявшийся в углу возле столовой, я подошел к двери и недоверчиво спросил:
— Кто там?
Ответа не последовало. Я услышал, будто кто-то уперся в дверь и сполз по ней вниз. Мне стало не на шутку страшно, но не было другого выхода, кроме как открыть дверь и посмотреть, какого черта ко мне кого-то занесло в такой час. Я приоткрыл дверь, и первое, что я увидел, — это были тоненькие исцарапанные ножки. Я распахнул дверь. На полу лежала девушка, вся в крови и изодранном платье. У меня перехватило дыхание, я огляделся, пару раз крикнул что-то угрожающее в пустоту ночного мрака и, взяв девушку на руки, занес ее в дом. Она была в сознании, но понимала все очень смутно. Пришлось изрядно с ней повозиться, прежде чем она смогла говорить: я умыл ее, кое-как накормил двухдневной давности супом, прижег все ссадины на теле и усадил возле камина. Она смотрела на игравший в нем огонь, на то, как он пожирал поленья, и молчала. Я присел на кресло-качалку немного поодаль и закурил трубку. Через полчаса девушка заговорила:
— Марта.
— Простите? – я не ожидал услышать ее голос.
— Меня зовут Марта.
От удивления я встал из удобного кресла, подошел к девушке поближе и присел.
— Вас зовут Марта?
— Да, — апатично ответила она. На ее лице не читалось никаких эмоций, но она была просто прекрасна: изящные пальцы, тонкая шея, глубокие глаза морского цвета. Все это я успел заметить, когда ухаживал за ней. На вид ей было лет двадцать, но в глазах читался большой жизненный опыт и даже некоторая усталость от этого мира.
— Марта, что с Вами стряслось?
— Меня… — по левой щеке ее скатилась слеза, — меня изнасиловал мой собственный муж. – Она отерла слезу запястьем и продолжила: — Он избил меня и изнасиловал. Я была без сознания, и он отвез меня в лес, выбросил меня на обочине…
Я налил нам обоим красного вина из старых запасов, и протянул бокал Марте. Она одним махом его опустошила и продолжила:
— Я наверное часа три ходила по лесу, пока не вышла на это поле и не увидела тусклый свет на втором этаже Вашего дома. Я вся продрогла…
— Это ничего страшного, ты можешь пожить у меня, все наладится… — с этого момента и началась наша совместная жизнь.
На следующий день я сказал Марте, что меня зовут Джесси. Она, видимо, шла на поправку, и чувство юмора мало-помалу стало к ней возвращаться.
— Еще скажите, что Квинстен… — она улыбнулась. – У нас в городке был такой. Поэт. Я обожала его стихи.
На какое-то мгновение мне показалось, что все это подстроено и меня разыгрывают, но, вспомнив, что до меня никому впрочем-то и дела нет никакого, я отбросил это предположение. Я не стал перебивать Марту, и она долго рассказывала о том, какие его стихи она любила больше всего, о том, что всегда хотела с ним встретиться, о том, что муж терпеть не мог Квинстена и ей приходилось прятать его брошюрки на чердаке. Потом я принес ей свои водительские права с фотографией и объяснил, что со времен того небольшого сборника «Зефирный поэт», в котором мой издатель поместил мое изображение, я порядком изменился, но стихи продолжаю писать и по сегодняшний день. Ей-богу, вы бы видели ее глаза, когда она поняла, что перед ней тот самый Квинстен! Джесси Квинстен, чьи стихи она хранила на чердаке! Я прыснул со смеху, увидев ее обезоруженный взгляд, и еще долго не мог успокоиться.
Вечер мы провели за разговорами. Она не уставала расспрашивать меня о моей жизни, о том, как я пришел в поэзию, о моих любимых книжках. Я был поистине тронут этим невинным созданием, восхищавшимся мной и моими творениями. Доселе я никогда не видел своих поклонников так близко, да и вообще сомневался в возможности их существования. Марта вселила в меня уверенность, и я взахлеб рассказывал ей всякие небылицы из своей жизни. Облокотившись на кресло перед камином, она с улыбкой слушала все мои россказни и пила вино. В ее глазах переливалось отражение пламени. Камин мерно трещал, и раз в час я подкидывал новые дровишки.
Спустя неделю Марта собралась уходить. Она сказала, что уже чувствует себя намного лучше и, как только ей представится такая возможность, она сполна отблагодарит меня за мою доброту. Но я ее удержал и сказал, что она может побыть у меня еще немного, ведь ей некуда было идти, да и помощь по дому мне никогда не помешает. Она с улыбкой согласилась.
Я уступил ей свою комнату на втором этаже, а сам перебрался в комнату напротив, которая мне никогда не нравилась, потому что в ней было холодно и неуютно. Но эти неудобства сполна компенсировались наличием в доме такой обаятельной и очаровательной женщины, как Марта. По утрам она готовила бесподобный бекон с яичницей, и, несмотря ни на что, я чувствовал себя самым везучим холостяком мира.
Незаметно для самих себя мы бок о бок пережили осень, зиму и весну, и настало жаркое лето.
С каждым днем писать стихи мне становилось сложнее и сложнее, пока однажды ночью я не понял, что исписался. За окном стояла непроглядная ночь, и комары пытались пробиться сквозь москитную сетку, но на этот раз ничего у них не выходило. Вдали был слышен шум леса: уже поднимался небольшой ветерок, как обещали в утреннем прогнозе по радио: на следующий день должен был быть ливень. Поэму про Летучего Голландца мне так и не удалось закончить, зато в стихах я описал всю прошлую жизнь Марты, как она мне ее описывала долгими винными вечерами у камина. Мы стали ближе, чем друзья, но я так и не осмеливался сказать ей, что люблю ее. Она, видимо, тоже что-то недоговаривала, но нам это не мешало.
Когда издатель увидел перед собой на запыленном столе поэму не о Голландце, а о потрепанной жизнью девушке, он пришел в дикий восторг и сказал, что это будет сенсация. Разумеется, я не поверил ни единому его слову, но все же взял все деньги, которые он мне предложил, а предложил он мне больше, чем я видел за последние пару лет.
Мой полуразваленный «Додж» кое-как довез меня до моего дома, и я показал Марте весь свой гонорар. Она не поверила своим глазам и стала пересчитывать зеленые бумажки. Когда я спустился, чтобы обедать, она все еще сидела над кучей долларов и сортировала их по аккуратным стопочкам. В мою сторону она даже и не посмотрела.
На следующий день, когда я по привычке вышел на французкую лоджию, чтобы закурить трубку, внизу возле гаража я не обнаружил своего любимого «Доджа». Он словно испарился. Я спустился и прошел по всему дому. Марты нигде не было. Денег тоже. В прихожей на зеркале висела записка: «Я тебя люблю. Я обожаю твои стихи. Марта». Надпись была сочно подкреплена отпечатком напомаженных губ на зеркале. Я ухмыльнулся, удивившись тому, что мои деньги меня и обокрали. Я был доволен тем, что она наконец сказала мне о своей любви, пусть и на этой дряхлой записке. Я был доволен, что сумел провести с такой красавицей бесподобные полгода, которые я, видит бог, запомню куда лучше, чем заунывные дни с бывшей женой. Я был доволен, что Марта наконец исполнит свою мечту и уедет в Нью-Йорк, где она сможет найти себе богатенького мужа, который бы писал стихи получше моих. Записку Марты я положил в небольшую коробочку и отнес ее на чердак.
Я опять стал писать стихи, и ночи стали такими же тихими, как и раньше…




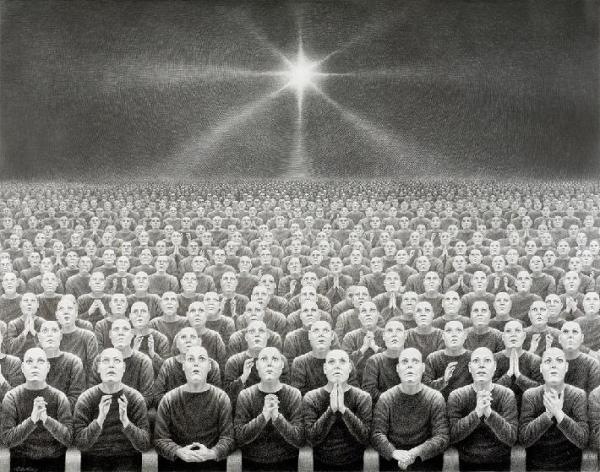


Слава Богу, кончилось всё цивилизованно! А то я уж было к концу заскучал.