Игорь Волгин. Уйти ото всех. Долгое прощание — 5.
24 апреля, 2011
АВТОР: admin
Продолжаем публикацию главы из книги «Лев Толстой. Последний дневник. / Игорь Волгин. Уйти ото всех» (Издательство ВК, 2010, 580 с.).
Начало — здесь. Предыдущее — здесь.
Предсмертные сны
Однажды в январе 1894-го молодой Иван Бунин (который тщился в то время быть правоверным толстовцем) посетит в Хамовниках автора «Анны Карениной». Бунин так передает речь своего собеседника:
«Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком…».
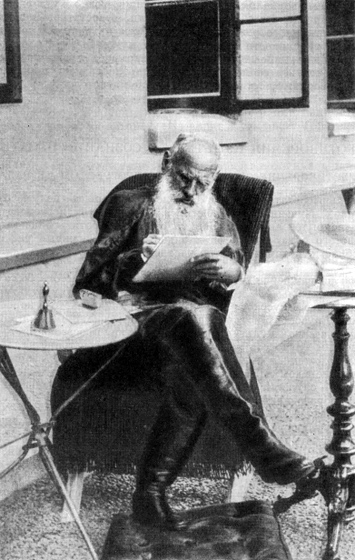
Что-то очень знакомое слышится в этих словах. В февральском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год, касаясь только что вышедшей «Анны Карениной» (конкретно разговора Стивы и Левина на охоте – «о раздаче имения»), Достоевский пишет: «Да в сущности и не надо даже раздавать непременно имения, – ибо всякая непременность тут, в деле любви, похожа будет на мундир, на рубрику, на букву… Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение – отдайте, велит идти работать на всех – идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: “Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик”. Тачка опять-таки мундир».
В «Дневнике писателя» встречается еще одна ключевая метафора, которая, как думается, перекликается с только что приведенной. Речь идет о другом современнике Достоевского, с которым ему, как, впрочем, и с Толстым, не удалось встретиться в этой жизни.
«…Наши великие, – записывает Достоевский в подготовительных материалах к «Дневнику», – не выносят величия, золотой фрак. Гоголь вот ходил в золотом фраке. Долго примеривал. <…> С “Мертвых душ” он вынул давно сшитый фрак и надел его. <…> Что ж, думаете, что он Россию потряс, что ли? С ума сошел. Завещание. <…> Много искреннего в переписке. Много высшего было в этой натуре, и плох тот реалист, который подметит лишь уклонения». И далее: «Мне всю жизнь потом представля<лся> этот не вынесший своего величия человек, что случается и со всеми русскими, но с ним случилось это как-то особенно с треском. <…> Вероятнее всего, что Гоголь сшил себе золотой фрак еще чуть ли не до “Ревизора”».
Эти записи к июльско-августовскому «Дневнику» 1877 года не вошли в окончательный текст. То есть сам золотой фрак там остается, но имя Гоголя исчезает: «Русский “великий человек” всего чаще не выносит своего величия. Право, если б можно было надеть золотой фрак, из парчи например, чтоб уж не походить на всех прочих и низших, то он бы откровенно надел его и не постыдился».
При всем различии функций золотой фрак и мундир – близнецы-братья. В своей критике Гоголя и Толстого (а в отзывах об «Анне Карениной» автор «Дневника» фактически выступает как первый критик толстовства, еще не оформившегося в учение, в доктрину), Достоевский предпочитает не аналитический разбор, а точный художественный образ. Золотой фрак и мундир есть предметы внешние по отношению к «внутреннему человеку», к тому, на кого напялены эти искусственные одеяния. Они не только прикрывают человека, его истинную суть, они как бы подменяют и замещают его самого. Золотой фрак – знак избранничества, недосягаемого величия, он создает непреодолимую дистанцию между обладателем подобного «дресскода» и «всеми остальными». С другой стороны, мундир – это символ несвободы, нравственной обязаловки, навязывания любви. (Кстати, шинель для Башмачкина – это тоже своего рода мундир: знак принадлежности к известному кругу и т. д.) Все это виды защитной одежды, призванные поставить преграду между человеком и окружающим миром.
Итак, в разговоре с Буниным Толстой употребляет тот же «термин»: мундир. Разумеется, это еще не доказывает того, что автору «Анны Карениной» крепко запомнились критические соображения автора «Дневника». Однако совпадение знаменательное. По сути, Толстой соглашается с давней мыслью Достоевского. Или – по прошествии лет – приходит к ней сам, независимо, употребив по чистой случайности ту же знаковую метафору.
Впрочем, если он и забыл статью Достоевского, ему поспешат об этом напомнить.
В эти октябрьские дни 1910 года жена В. Г. Черткова пересылает Толстому письмо его бывшего секретаря Н. Н. Гусева. Гусев замечает, что в последние годы о Достоевском очень много писалось в литературе и он «выставлялся величайшим и совершеннейшим учителем веры». Поэтому ему, Гусеву, «после романов, было очень интересно познакомиться с теми писаниями Достоевского, где он говорит от себя лично». Он «много ждал» от «Дневника писателя», но увы, «понес жестокое разочарование. Везде Достоевский выставляет себя приверженцем народной веры; и во имя этой-то народной веры, которую он, смею думать, не знал <…> он проповедывал самые жестокие вещи, как войну и каторгу». Далее Гусев поминает статью Достоевского об «Анне Карениной», «в последней части которой Лев Николаевич тогда еще выразил свое отрицание войны и насилия вообще». Из «Дневника писателя» Гусев неожиданно для себя узнает, «что Достоевский был горячим поборником противления злу насилием, утверждал, что пролитая кровь не всегда зло, а бывает и благом…». И Гусев приводит «самое ужасное место из этой ужасной статьи» – фантастическую сцену, которую домыслил Достоевский, толкуя о «Карениной»:
«Представим себе <…> стоит Левин уже на месте, там (то есть в Болгарии, где турками была учинена резня мирного населения. – И. В.), с ружьем и со штыком (“Зачем он этакую пакость возьмет?” – добавляет “от себя” Гусев. – И. В.), а в двух шагах от него турок сладострастно приготовляется выколоть иголкой глаза ребенку, который уже у него в руках… Что бы он сделал? – Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку! – Нет, уж пусть он лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити».
Гусев сообщает, что он «пришел в ужас», прочтя у того, кого считают теперь своим духовным вождем многие русские интеллигенты, следующие строки: «Как же быть? дать лучше прокалывать глаза, чтоб только не убить как-нибудь турку? Но ведь это извращение понятий, это тупейшее и грубейшее сантиментальничание, это исступленная прямолинейность, это самое полное извращение природы». Не устраивает Гусева и практический вывод, который делает автор «Дневника»: «Но выкалывать глаза младенцам нельзя допускать, а для того, чтобы пресечь навсегда злодейство, надо освободить угнетенных накрепко, а у тиранов вырвать оружие раз навсегда».
Прочитав письмо Гусева, Толстой 23 октября пишет Чертковой: «Случилось странное совпадение. Я, – все забывши, – хотел вспомнить забытого Достоевско<го> и взял читать Брать<ев> Карамаз<овых> (мне сказали, ч<то> это очень хорошо). Начал читать и не могу побороть отвращение к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию и неподобающему отношению к важным предметам. И вот Н. Н. пишет то, что мне все объясняет»1.
Это – опять же почти дословно! – совпадает со словами другого Николая Николаевича – Страхова, который, как помним, писал Толстому – о своей работе над биографией Достоевского – «Я боролся с подымавшимся во мне отвращением…»
«Не то, не то!» – хватался за голову и «отчаянным голосом» повторял Достоевский, читая за несколько дней до смерти письмо Толстого к графине А. А. Толстой, где ее корреспондент излагал свою новую веру. «Не то, не то!» – мог бы воскликнуть (да практически и восклицает) Толстой, уходя из Ясной Поляны (а точнее, из жизни) и читая «на посошок» закатный роман Достоевского2.
А между тем, если речь заходит о главном, Достоевский и Толстой обнаруживают удивительное сходство.
29 мая 1881 года Толстой записывает в дневнике: «Разговор с Фетом и женой. Христианское учение неисполнимо. – Так оно глупости? Нет, но неисполнимо. – Да вы пробовали ли исполнять? – Нет, но неисполнимо».
То есть для Толстого христианство есть не отвлеченная теория, а своего рода «руководство к действию»: оно должно быть применимо ко всем без исключения явлениям действительной жизни. (Он-то как раз и «пробует исполнять».) Но не тем же, по мнению Достоевского, должен руководствоваться человек, причем не только в своем бытовом поведении, но, так сказать, на мировом поприще? Христианское сознание должно быть внесено во все сферы существования: только так будет исполнен Завет.
«Нет, – пишет автор «Дневника писателя» (в том же февральском выпуске за 1877 год, где речь идет о Толстом), – надо, чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе что же будет: все затемнится, замешается и потонет в цинизме».
Евангельским заповедям надлежит стать «конституцией» посюстороннего мира: в противном случаем мир этот обречен. Но еще неожиданнее сходятся художественные угадки Достоевского и Толстого.
За сутки до ухода из Ясной Толстой записывает: «Видел сон. Грушенька, роман, будто бы, Ник. Ник. Страхова. Чудный сюжет». Здесь – соединение «чужого» романного вымысла («инфернальница» Грушенька) с обстоятельствами жизни реального лица – «добропорядочного», бестемпераментного, сторонящегося женщин и тем не менее уличенного Достоевским в тайных пороках Страхова («несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен») 128. Толстой, ничего не зная об этом мнении Достоевского, приходит к тому же.
Гениальным сновидцам снятся гениальные сны.
…Принято считать, что читатели делятся на две категории:
1. Любящих Толстого и не любящих Достоевского; 2. Любящих Достоевского, но не любящих Толстого. (Хотя, признаться, встречаются не любящие обоих.) Допустим, что так оно и есть. Однако не снимает ли «нечаянно» эту полярность предсмертный толстовский сон?
___________________________
1. Толстой Л. Н. ПСС. Т. 89. С. 229. 6 июня 1910 года Гольденвейзер записал следующие слова Толстого: «Я нынче опять получил длиннейшее и очень умное (кажется, английское) письмо, и опять там тот же ребенок, которого убивают на моих глазах. Я всегда говорю: я прожил 82 года и отроду не видал этого ребенка, о котором мне все говорят <…> Да, наконец, кто мешает при виде такого ребенка защитить его своим телом?..» (Гольденвейзер А. Б. С. 315). Имеется ли здесь в виду какой-то собирательный, «общий» ребенок – или всетаки это «ребенок Достоевского»?
2. Интересно сравнить приведенное выше письмо Толстого с записью Маковицкого от 21 сентября 1908 г.: «Я сегодня продолжал читать второй том биографии Л. Н-ча Бирюкова. Сильно подействовала критика Достоевским “Анны Карениной”. Я говорил об ней Л. Н., он пожелал прочесть и сказал: “Достоевский – великий человек”» (Маковицкий Д. П. Т. 3. С. 206). То есть, по-видимому, в 1910 году указанная критика не являлась уже новостью для Толстого. Удивительно, что в момент появления «Дневника» со статьей об «Анне Карениной» этот несомненно важный и знаменательный текст не нашел никакого отражения в переписке Толстого (например, со Страховым.)


Спасибо , очень интересная статья, особенно мысли об отбытии старшего сына накануне » побега» и о сне Толстого о Грушеньке и Страхове…
Насчёт сравнения с художниками, то мне всегда казалось, что творчество Длстоевского похоже на Ван Гога, А Толстого на Да Винчи…
И кстати , есть ещё третяя группа — те , кто любят и Толстого и Достоевского…у Толстого тело и душа слиты..у Достоевского- сплошная бездна духа..
Спасибо большое, очень интересная стать!
Спасибо, автору за очень глубокий анализ.