Юрий Олеша. Дневник. 8.
23 мая, 2011
АВТОР: admin
Начало дневника Юрия Олеши — ЗДЕСЬ. Предыдущее — ЗДЕСЬ.
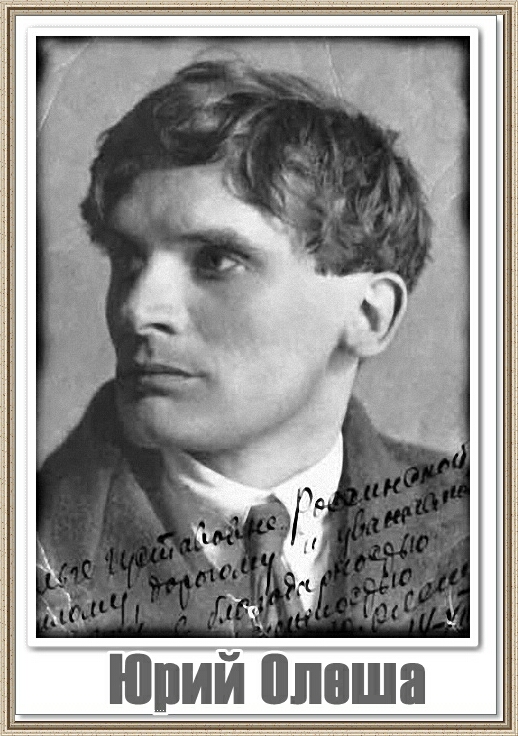
Я, естественно, не помню, как я родился, момента рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу, если бы не наше, не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента, и наше желание хотя бы немного — в памяти нашей приблизиться к нему.
В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первое воспоминание, уже далеко не первое. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходило с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в этой секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были нестрашными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зрительные, слуховые и осязательные ощущения…
Мозг мой уже работал, работали, очевидно, и органы памяти, и не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось; очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некими… я даже не могу определить… некими продолжающимися в глубине сознания воплями.
В самом деле, какое воспоминание можно назвать первым?
На мне еще платье девочки, и я ем арбуз. Я ем его под столом — во всяком случае, надо мною доски.
Это пространство освещено солнцем, в котором горит красный цвет арбуза, и хоть я под столом, но пространства для меня достаточно — не слишком много, но и достаточно, как в каюте.
Вот первое воспоминание.
Солнечный свет, красные куски арбуза и над головой доски. Да, и еще то, что на мне именно платье, и я знаю, что это платье девочки, несвойственное мальчику, и что в том, что я в него одет, есть что-то, не совсем правильное.
Считается, что это мы уже впоследствии присочиняем к воспоминаниям также и психологические оттенки и что на самом деле в младенческие годы мы не могли переживать свое состояние так аналитически, как мы об этом вспоминаем. Наука отвергла бы мое утверждение о том, что мне была понятна неправильность превращения меня, хотя бы и одеждой, в девочку. Мне сказали бы, что я присочинил это потом.
Не знаю, правилен ли взгляд на это дело науки. Есть обстоятельства, в которых поэзия разбирается гораздо точнее, чем наука.
Однажды, когда я был маленьким мальчиком, легши спать, я вдруг услышал совсем близко от себя какой-то звук — глухой, но очень четкий, одинаково повторяющийся. Я стал теребить одеяло, простыню, убежденный, что из складок выпадет, может быть, жук или какая-нибудь игрушка, машинка. Я заглянул под подушку… ничего не обнаружилось. Я лег, звук опять дал о себе знать. Вдруг он исчез, вдруг опять стал раздаваться.
…
Главное свойство моей души — нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить именно заботу именно о том, что вот что-то надо сделать, и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины — то я предполагал, что это «что-то» — это роман, который надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо, — на самом же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь — подождите, вот умру, и тогда уж буду жить.
Между тем я всегда был оптимистом и очень любил жизнь!
Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая запах свежеокрашенных зеленой краской дощечек, на которых я собственноручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были красоваться эти дощечки…
Масляная краска вдувала в тело здоровье. По всей вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади? Видел ли я их? Не помню. Лошадей я и не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, почти колбасками возвышавшиеся над плоскостью дощечки буквы. Я исполнял эту работу как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное…
В детстве мне ни разу не удалось запустить змея. Я ни к кому, правда, не обращался за инструкцией — я знал, что необходимо некое соединение ниток, так сказать, у морды змея, именуемое путой, но какое именно соединение следует сделать, я не знал. Между тем от состояния этой злосчастной путы и зависело — полетит змей или будет бежать, скача по земле, рогатый в эту минуту, как козел.
Да, на козлов были похожи эти мои нелетающие змеи. Да, да, у них были рожки — концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаге. Хвост змеи казался бородой такого злого и глупого козла.
Страдания эти мои происходили на Михайловском поле.
<…>
Когда я отмечаю свое неумение писать, то я имею в виду составление фразы. Мне очень трудно написать фразу одним, так сказать, махом, в особенности если фраза создается для определения каких-либо отвлеченных понятий. Она вдруг обламывается, и я повисаю, держась, скажем, за какой-либо кусок придаточного предложения…
Я успокаиваю себя тем, что я, мол, поляк и русский язык все же чужой для меня, не родной. Возможно, что причина именно в этом.
Я помню, как отец однажды пожелал проверить мои успехи в чтении по-русски. (Учила меня бабушка, отец выступал в Данном случае как верховный судья.)
— Иван! — кричит отец, рассердившись. — Иван!
Я произношу Иван, с ударением на первом слоге, по-польски, в каковом языке не может быть ударения на последнем слоге.
— Иван!
— Иван! — повторяю я.
— Иван! Иван! Иван!
Нет, я все же произношу — Иван. Боясь, как бы в гневе не ударить меня, отец прекращает экзамен, я плачу. Я был еще маленький поляк, и мне было трудно повернуть в себе на новый лад то, что я воспринял с кровью.
Как мне помнится, я мог провести прямую черту, как вертикальную, так и горизонтальную, по бумаге карандашом или] пером — без линейки. Она была всякий раз абсолютно пря-| мой и абсолютно параллельной как нижней стороне листа, так и боковой.
Отец, давший мне переделить какую-то ведомость, сказал:
— Вот тебе линейка. И я, помню, ответил:
— Мне не надо линейки.
Отец рассердился. Тогда я провел линию, подчеркивающую какую-то колонку цифр, и отец, помню, ничего не сказал от удивления, только раскрыл брови.
Это была юность, сила и будущее.
Теперь я даже не могу провести прямой мысли — как явствует из этого отрывка.
Когда я в совсем маленьком возрасте рисовал, как мне казалось, русских солдат в бою с японцами, то тогда мне никак не казалось, что я рисую нечто неправильное: я был убежден, что рождающиеся под моим карандашом линии есть именно линии, изображающие солдат.
Взрослые, наблюдавшие, как я рисую, видели совсем не то, что видел я. Мне даже представляется, что я поймал какое-то юмористическое переглядывание взрослых. Да и кроме того, я помню до сих пор замеченное мною тогда колено одного из стреляющих солдат — оно было просто неким прямым углом» двумя соединившимися под прямым углом линиями. Словом, * было все же у меня прозрение, сказавшее мне, что я рисую ерунду…
Это была тетрадка размером приблизительно в открытку, более все же квадратная, чем открытка, толстенькая, увесистая тетрадка, почти книжечка.
Сейчас, на восприятие взрослого, мне представляется, что она состояла из десятков двух примерно довольно плотных листов, из которых каждый был, я бы сказал, гравюрой с той или иной известной картины. Так, я почти убежден, что на одном из них была гравюра с «Клятвы в зале для игры в мяч» Давида.
Да, да, безусловно, это были гравюры —- помню тонкие параллели штрихов, серые массы изображений, эту темноту всего поля, в которое приятно и заманчиво вглядываться и вдруг узнавать среди темных и клубящихся масс события какую-то освещенную далеким солнцем тропинку, по которой идет ребенок.
Итак, гравюры. Целая книжечка гравюр.
Но зачем бы дарить ребенку в день именин такой подарок? Разве это интересно — гравюры?
Я любил вырезать из картона доспехи. Лучше всего удавались набедренники в виде, как и полагается, некоего пояса с нитеобразным вырезом под животом. Это удавалось, но дело не шло дальше примерки, когда мои бедра оказывались охваченными действительно хоть и картонным, но все же похожим на рыцарский набедренником. Но ведь нужно было и скрепить этот набедренник где-то на пояснице, чтобы он не спадал! Вот этого и нельзя было сделать. Возможно ли сшить картон? Тут и заканчивалась эта, по существу, игра в вооружение.
Я до галлюцинации запомнил один из моментов, когда я занят этой игрой. Сумерки в столовой — в той столовой на Греческой, выходящей в стену, в окно Орловых! — и я держу голубеющий в сумерках картон. Боже мой, вот сейчас я протяну руку, картон опять окажется в моей руке — и мгновение Повторится! ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

