Максимилиан Волошин: цена поэзии
27 мая, 2011
АВТОР: Виктория Шохина
28 (16) мая 1877 года родился, а 11 августа 1932 умер поэт, которого высоко ставили и белые, и красные

В советские времена одним из обязательных для советского интеллигента развлечений был Волошин-лэнд. Оказавшись, например, в Коктебеле, надо было непременно подняться к могиле Макса, помянуть его, а потом рассказывать с придыханием, как все было. В ту же программу входили апокрифы, анекдоты, истории про Волошина. Как правило, красочные и занимательные.
Клубок историй
Вот он приходит к юной Цветаевой: «Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды. Вкрадчивый голос» (про «вкрадчивость» пишут многие мемуаристы). Кажется, вначале 32-летний поэт все-таки хотел настроить 17-летнюю Марину Ивановну на эротическую волну – иначе не начал бы просвещение ее с романа Анри де Ренье (о маркизе, периодически превращающемся в фавна) и с мемуаров Казановы. Увидав, что попал не в такт, не особенно смутился и легко переключился на Гюго и Жорж Санд. Отметим как судьбоносную подробность, что знакомство Цветаевой с Сергеем Эфроном произошло именно в коктебельском доме Волошина в 1911 году.
По литературной насыщенности дорогого стоит и такой эпизод. Гумилев оскорбил достоинство Лили Дмитриевой, знаменитой Черубины де Габриак, рассказав в довольно развязной форме, что имел с ней роман. И вот представьте себе: мастерская художника-декоратора Александра Головина в Мариинке. Внизу Шаляпин поет «Заклинание цветов» из «Фауста». На последних словах арии Волошин подходит к Гумилеву и влепляет ему увесистую пощечину. «Достоевский прав. Звук пощечины действительно мокрый», – невозмутимо комментирует Иннокентий Анненский. Блок отстраненно молчит. «Вы поняли?» – спрашивает Волошин. «Да», – отвечает Гумилев.
А 22 ноября 1909 года происходит настоящая, но притом более чем литературная дуэль. Во-первых, не где-нибудь, а у Черной речки (вероятно, каждая сторона отводила другой роль Дантеса). Во-вторых, секунданты – Алексей Толстой и художник Александр Шервашидзе со стороны Волошина, Михаил Кузмин и секретарь «Аполлона» Зноско-Боровский, со стороны Гумилева. Благодаря счастливому стечению обстоятельств дуэлянты остаются целыми и невредимыми.
После этого они встречались всего лишь раз – в Крыму, за несколько месяцев до гибели Гумилева. (Стоит отметить, что Волошин рассказывал Николаю Чуковскому о том, как летом 1916 они с Гумилевым ловили скорпионов и заставляли их пожирать друг друга…)
Любопытна и знаменитая «репинская история». Волошин как художественный критик вступился за Абрама Балашова, который исполосовал (в январе 1913 года) картину Репина «Иоанн Грозный и его сын». Он настаивал: «не Балашов виноват перед Репиным, а Репин перед Балашовым», потому что в самой картине таятся «саморазрушительные силы». Подобным «произведениям натуралистического искусства, изображающим ужасное, – место в Паноптикуме», – говорил Волошин. Какая-то правда в его речах, была.

Подчиняясь духу времени (тогда все шли в юристы: Леонид Андреев, Блок, Пастернак… и т.д.), Волошин выбрал себе правовую стезю. Но, окончив два курса юридического факультета Московского университета, без сожаления сошел с нее. Он испытал едва ли не все возможные коллективистские соблазны, представавшие в той или иной форме, – иногда экзотической, иногда эзотерической. Увлекался поочередно: социализмом, буддизмом, католицизмом, масонством, оккультизмом… Вступил — вместе с Андреем Белым — в ряды истовых штайнерианцев. Летом 1914 года они строили по проекту Штайнера в Дорнахе (Швейцария) антропософский храм Гетеанум. Можно назвать это родом безумья, а можно – «блужданиями духа», которые на переломе века мучили многих.
Началась Мировая война, Россия и Германия стали врагами. Волошин послал военному министру отказ от воинской службы: он был настроен пацифистски и – отчасти в результате общения со Штайнером – прогермански. «Он совсем разил меня тогда своим «германофильством», – вспоминал Сергей Маковский. – Дела наши на фронте в то время были из рук вон плохи. «Ну что же? – вкрадчиво улыбаясь, утешал Макс, – Все к лучшему. Европе предстоит Pаx Germаnicа»».
Потом он будет говорить с гордостью:
Я и германского дуба не предал,
Кельтской омеле не изменил.
Я прозревал не разрыв, а слиянье
В этой звериной грызне государств.
Умная Цветаева определяла своего любимого старшего друга так: «Француз культурой, русский душой и словом, германец духом и кровью». В его жилах действительно текла немецкая кровь по материнской линии; по отцу же – коллежскому советнику и судебному деятелю Кириенко-Волошину – происходил Максимилиан Александрович от казаков Запорожской Сечи…
Молясь за палачей
До 1917 года Волошин писал нормальные, среднесимволистские стихи. «Не столько признания души, сколько создание искусства», – говорил Брюсов (ему-то проблемы с душой были хорошо известны). Стихи Волошина «декоративны и академичны, блестящи и холодны» (Дмитрий Святополк-Мирский). «Недоставало его стихам той силы внушения, которая не достигается никакими внешними приемами. От их изысканной нарядности веяло холодом» (Сергей Маковский).
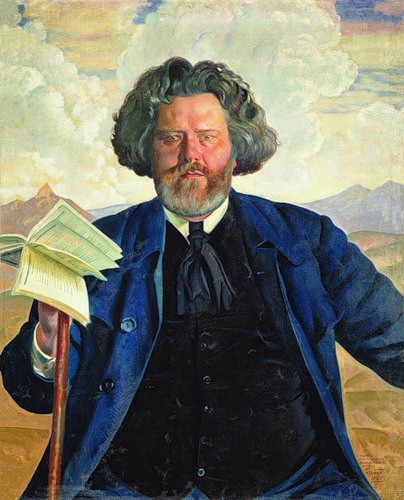
Если бы не революция 1917 года и не Гражданская война, оставаться бы Волошину в почетном ряду «малых поэтов» Серебряного века и в качестве колоритной литературной фигуры – источника анекдотов. Революция, которую он воспринимал (и не без оснований) как мировую мистерию, смела какие-то заслоны в его душе, психике, интеллекте. Его понес поток связной, хотя порой и избыточной речи. От книжной – «головной» – поэзии остались, кажется, только могучие ассоциативные поля. И вот в этом потоке начали образовываться тверди великолепных стихов!
Кажется, все измерения мистического опыта, которым он тренировал душу, вдруг сразу – по-настоящему, до последнего предела – обострили его дар. Чутким стало его восприятие, горестно точным – его слово.
С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах…
(«Мир», 1917)
Он забыл и о «германском дубе» и о «кельтской омеле», и о священных камнях Европы.
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным – с пулей в затылке
И со штыком в животе.
(«Терминология», 1921)
Главное для него теперь: особая – мессианская – роль христианской России. Ее судьба, ее страдания, ее пример. Он вдруг – проясненным зрением – видит сразу всю суть русской истории, которая – вневременна и внеисторична, ибо стоит (топчется?) на месте:
Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах – дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.
Вздеть на виску, выбить из подклетья
И швырнуть вперед через столетья
Вопреки законам естества –
Тот же хмель и та же трын-трава.
(«Северовосток», 1920)
Самые популярные строки Волошина – апофеоз примиренчества. В 1990-е их особенно любили цитировать литераторы «демократической» ориентации, как бы открещиваясь таким образом от внешне неприятного, но внутренне им близкого большевизма:
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
(«Гражданская война», 1919)
Николай Чуковский (не без сарказма) замечал: «…прислушиваясь к его рассказам, – а он был говорлив, – можно было заметить, что красные ему все-таки были куда милее белых». Скорее всего, это так и есть, иначе поэт бы здесь не остался. Но здесь он спасал людей – и красных, и белых, и от красных, и от белых.
Так или иначе, стихи Волошина о революции, особенно цикл «Личины», в самый разгар Гражданской войны получили восторженные отзывы из двух противоположных станов. «Вот эти добровольческие «Осваги» – их надо бы все позакрывать. А вместо них издать книжку ваших стихов – вот наша сила!» – воскликнул Владимир Пуришкевич, услышав выступление поэта на военном транспорте «Мечта» в Керчинском порту. В то же самое время в Москве Лев Троцкий писал: «Вот самые лучшие, несмотря на контрреволюционную форму, стихи о русской Революции». Волошин гордился тем, что сумел «найти такие слова, которые одинаково затрагивали и белых, и красных, и именно в определении сущности русской революции».
И еще о молитве. «Молятся обычно за того, кому грозит расстрел, – рассуждает Волошин в «Записях 1932 года». – И это неверно: молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни. Потому что /…/ в наибольшей опасности (моральной) находится именно палач, а совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палачей, и в результатах молитвы можно не сомневаться». Это трудно принять. Еще труднее выполнить. Но у Волошина, наверное, получалось, хотя он всякое видал.
Странен и жуток неспешный говор свободного стиха в «Повести временных лет» (1922):
В.Ч.К. Палач-джентльмен. Очень вежливый.
Родом латыш. Слегка заикается.
Все делает собственноручно, без помощников…
***
На площадке, где расстреливают, висит объявление
От здравотдела: «Не целуйте детей:
Поцелуи – первоисточник заразы».
***
Иногда напивался и говорил сестре милосердия:
— «Ох, лезут, лезут, сестрица, лезут из-под земли».
Впечатляющие такие зарисовки, швыряющие прямо в паноптикум – в тот самый, куда хотел Волошин поместить картины Репина. Тогда ему еще была неведома тайна истории, которой «потребен сгусток воль. Партийность и программы – безразличны».

Гениален в своей простоте, очевидности в то же время почему-то – в полной неожиданности трактат «Государство» (1922). Звучит то, что хорошо известно, а заводит как нечто неожиданное:
Политика есть дело грязное –
Ей надо
Людей практических,
Не брезгующих кровью,
Торговлей трупами
И скупкой нечистот…
Но избиратели доселе верят
В возможность из трех сотен негодяев
Построить честное
Правительство стране.
Произносятся стихи эти тихим, располагающим к себе, вкрадчивым голосом, подчеркивающим и сам их сатанинский смысл, и сатанинскую насмешку над смыслом как таковым.
Волошин действительно был чужд всякой идеологии (кроме идеологии мессианства, впрочем), всякой партийности (кроме своей). В его лучших стихах, согласно кредо – «сухость, ясность, нажим, начеку каждое слово». А также мистическое и звериное чутье. И – высокое искусство назвать вещь – увиденную, почуянную – своим точнейшим именем.
В России нет сыновнего преемства
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,
Курить в их честь стираксою и серой
И головы рубить родным богам,
А год спустя — заморского болвана
Тащить к реке привязанным к хвосту, –
клеймит поэт.
Но тут же утешает:
Зато в нас есть бродило духа – совесть –
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного. В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, – рядом
С любым из европейцев – человек.
(«Россия», 1924)
Так из одаренного, но не выдающегося «малого поэта» Серебряного века получился великий русский поэт. Так история, страшней и безумней которой нет в мире (по слову Волошина), выковала гениальные стихи. Такова была (и остается) цена поэзии. Возможно, слишком дорогая.



Благодарю за прекрасный и совершенно правдивый текст.совершенно точно подмечены психологические особенности,свойственные нашему роду.
Глотова Ирина Александровна,внучатая племянница М.Волошина.
Очень яркая и насыщенная статья о глубоком, масштабном поэте! Что подтверждается и отзывом родственницы Максимиллиана Волошина. От Души вам Благодарен!
Спасибо за статью! Захотелось ещё раз почитать Волошина.
Когда познакомился с его стихами, то для себя решил, что это самый главный поэт 20-го века.