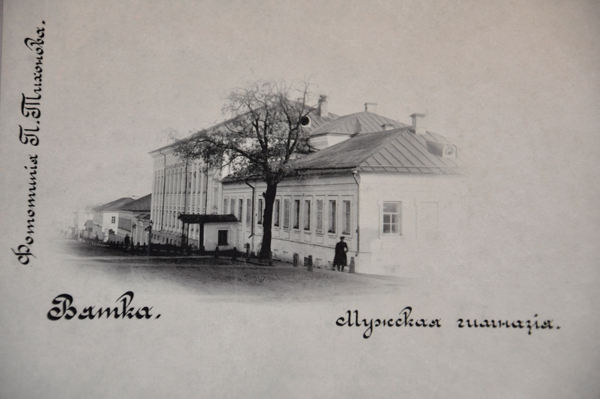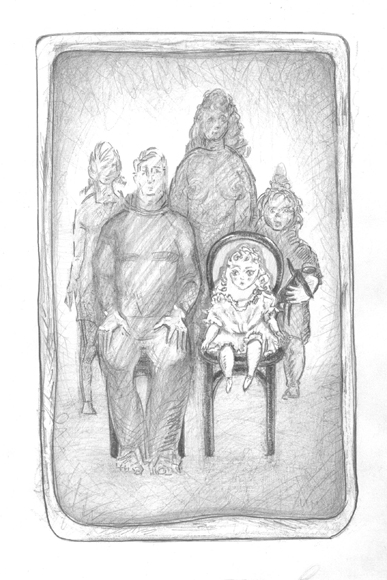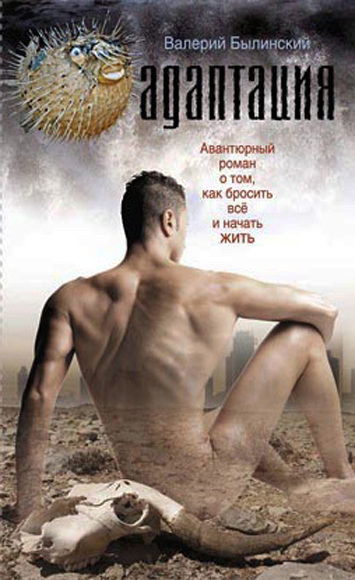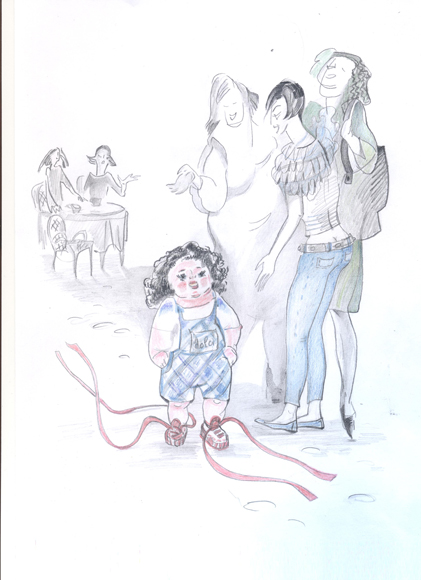Наставничество и традиции
Рубрики: История, Культура и искусство, Люди, Мысли, На главную, Опыты, Перемены, Философия Когда: 12 мая, 2013 Автор: Андрей Тесля
Цыганков Д.А. В.И. Герье и Московский Университет его эпохи (вторая половина XIX – начало XX вв.). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. – 256 с.
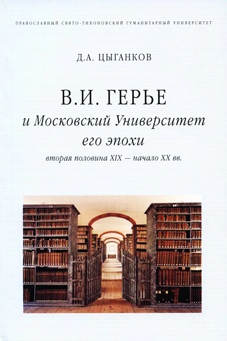
На протяжении значительной части своей истории университеты – и русские университеты в этом отношении не составляют исключения – были местами, цели и задачи которых выходили далеко за пределы собственно образовательных. Университет гумбольдтовского типа стал местом порождения и проверки нового знания, предшествующие университеты, например, такой, как Геттингенский – или, в другом отношении, такие как Оксфорд или Кембридж XVIII–XIX вв., являлись местами «воспитания благовоспитанного молодого человека хорошего общества», (окончательного) «формирования джентльмена» и т.п. История университетов с этой точки зрения – ценный аспект социокультурной истории. Но и с позиции собственно истории науки история университетов – это история «мест производства» или (в другие моменты) преимущественно «мест хранения», «мест передачи» знания, история того, как это знание формируется, включая в нее аспекты формирования научных сообществ, выработки внутренних стандартов научного знания, складывания и закрепления конкретных исследовательских и педагогических традиций (тем более, что на уровне университетского образования в том его виде, который сложился ко 2-й половине XIX века, педагогические и исследовательские моменты сложно разграничить). (далее…)