«Один день Ивана Денисовича»: политика и эстетика
Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое Когда: 17 ноября, 2012 Автор: Виктория Шохина
В ноябре 1962 года вышел «Новый мир» № 11 с повестью Солженицына

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака», – знаменитое начало знаменитой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Решение о её публикации принимал лично первый секретарь ЦК КПСС Хрущев. (Это как если бы президент Путин решал вопрос о публикации, скажем, «Черной обезьяны» Прилепина. Или «S.N.U.F.F.» Пелевина). «Высочайше одобренная повесть», — скажет потом Солженицын. Тираж журнала был 96 900 экземпляров (почти сто тысяч). Но и того не хватило, по разрешению ЦК КПСС допечатывалось ещё 25 000.
На гребне славы
Наутро безвестный учитель из Рязани проснулся знаменитым. Принята повесть была восторженно – как читателями, так и критиками. Однотипные заголовки критических статей сообщали: это произведение «О прошлом во имя будущего» (К. Симонов), оно написано, «Чтоб это никогда не повторилось» (Г. Бакланов), «Чтоб вдаль глядеть наверняка» (Л.Афонин), а также «Во имя правды, во имя жизни» (В.Ермилов); в ней «Вся правда» (Г.Скульский) «Суровая правда» (А.Чувакин), «Большая правда» (В.Ильичёв), «Насущный хлеб правды» (В.Бушин) и т.п.
Отдельные недовольные, впрочем, проявились тогда же. Так, в «Известиях» (от 30.11.1962) было напечатано стихотворение Н. Грибачёва «Метеорит». Речь в нём шла о метеорите, который «явил стремительность и пыл и по газетам всей Европы почтительно отмечен был». А потом наступило, так сказать, утро прозрения, и метеорит «стал обычной и привычной пыльцой в пыли земных дорог». Каким-то образом читатели распознали в метеорите Солженицына и восприняли эту отвлеченную аллегорию как наезд на него. Но победному шествию «Ивана Денисовича» и его автора это пока не мешало.
17 декабря Солженицына позвали в Дом приемов на Ленинских горах – Хрущев решил встретиться с деятелями советского искусства и литературы. Было торжественно и красиво. Столы ломились от яств, хрусталь играл бликами, ослепительно белели скатерти, накрахмаленные салфетки стояли конусом. Официанты, вышколенные, как офицеры КГБ, бесшумно передвигались по залу. Когда секретарь ЦК КПСС Ильичев в своей речи вспомнил о «произведениях, которые сильно и в художественном, и в патриотическом смысле критикуют то, что творился произвол в период культа личности Сталина», Хрущев поднял Солженицына с места и представил его залу под гром аплодисментов. (далее…)


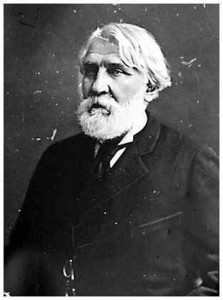





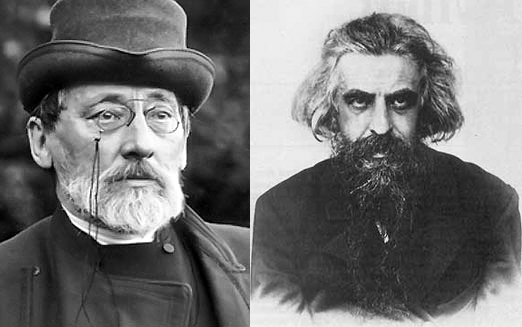



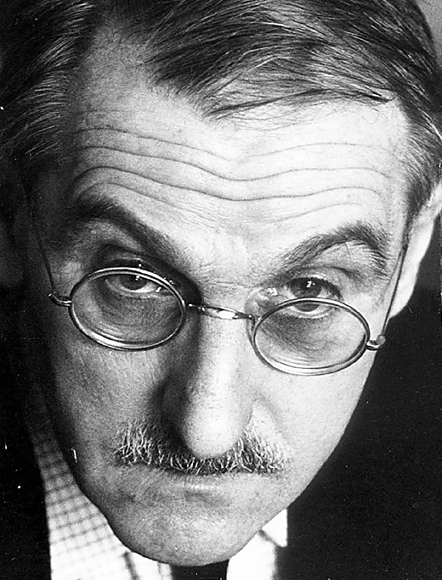
 На современных книжных комбинатах, производящих постапокалиптическую фантастику, трудятся сотни человек: генераторы новых проектов, авторы, «негры», pr-менеджеры, копирайтеры. Ежегодно на любителей подобного рода чтива обрушиваются десятки толстенных томов, кишащих крысами-мутантами, бандами садистов, зомби и супергероями, сумевшими в одиночку противостоять этим ужасам «жизни после жизни». Постапокалиптические саги тянутся годами, переходя от одного автора к другому, как эстафетная палочка. Издатели выдают на-гора новые тонны макулатуры, а читатели охотно впиваются жадными глазами в убористые тексты «страшилок». «Постапокалиптика» — это уже не жанр, а масштабная индустрия: тексты, кино, игровые программы. Ни один из нынешних лауреатов престижных литературных премий не может похвастаться популярностью и тиражами фантастов, сочиняющих про «конец света». Прилепин, Пелевин, Быков и даже Акунин – это просто карлики у ног циклопических фигур авторов романов-клише про «сумеречный мир».
На современных книжных комбинатах, производящих постапокалиптическую фантастику, трудятся сотни человек: генераторы новых проектов, авторы, «негры», pr-менеджеры, копирайтеры. Ежегодно на любителей подобного рода чтива обрушиваются десятки толстенных томов, кишащих крысами-мутантами, бандами садистов, зомби и супергероями, сумевшими в одиночку противостоять этим ужасам «жизни после жизни». Постапокалиптические саги тянутся годами, переходя от одного автора к другому, как эстафетная палочка. Издатели выдают на-гора новые тонны макулатуры, а читатели охотно впиваются жадными глазами в убористые тексты «страшилок». «Постапокалиптика» — это уже не жанр, а масштабная индустрия: тексты, кино, игровые программы. Ни один из нынешних лауреатов престижных литературных премий не может похвастаться популярностью и тиражами фантастов, сочиняющих про «конец света». Прилепин, Пелевин, Быков и даже Акунин – это просто карлики у ног циклопических фигур авторов романов-клише про «сумеречный мир».
