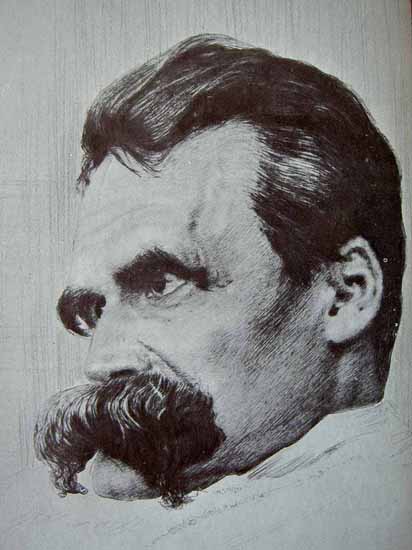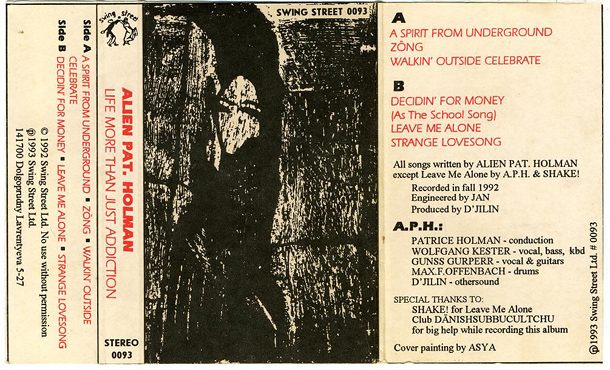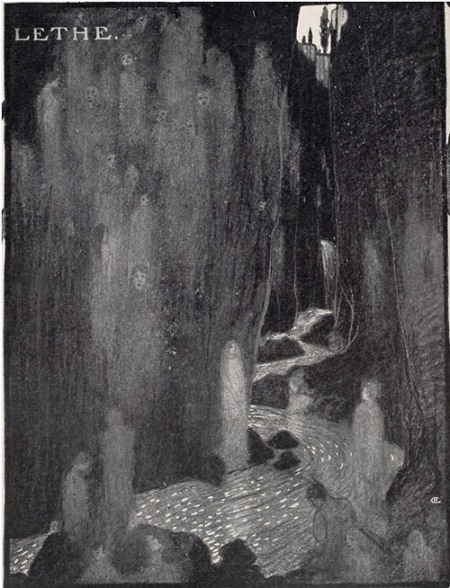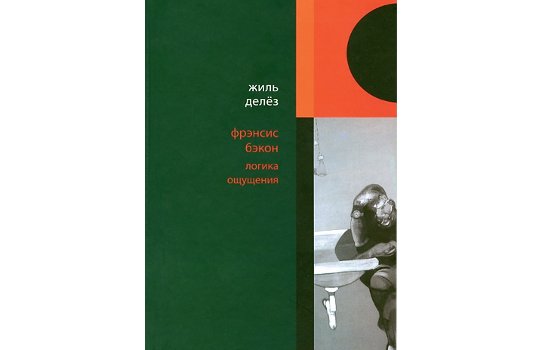Споры о церкви, резко активизировавшиеся в последнее время, заслуживают внимания и независимо от конкретных обсуждаемых вопросов, поскольку обозначают и позволяют ввести в пространство публичной дискуссии куда более общие темы. А именно – поговорить о том, какое место современное общество готово отвести церкви и на какое место, с одной стороны, рассчитывает церковь, а с другой – какое она согласна принять.
Во-первых, можно указать на самый общий контекст – секулярное общество предполагает наличие целого ряда автономных сфер, каждая из которых обладает собственной логикой, а переход из одной сферы в другую предполагает и переключение логики. Нет универсальной системы ценностей, за исключением ценности самого секулярного общества и обосновывающей его новоевропейской рациональности. Здесь включается знакомый нам всем механизм дифференциации – нечто может признаваться имеющим эстетическую ценность, но не имеющим этической, действие, осуждаемое с точки зрения исповедуемой субъектом религии, одновременно им же принимается как соответствующее, например, праву. Впрочем, когда речь идет об «одном и том же субъекте», возникает сложность. С одной стороны эта секулярная реальность автономных сфер объединяется именно посредством единства субъекта: он та точка схождения, которая обращает все автономии в относительные, а процесс дифференциации обращает вспять. Когда субъект говорит о прочитанной книге: «мне нравится», это суждение может отсылать к этическому, эстетическому, политическому или какому-либо иному основанию, либо любого уровня сложности переплетению их и ряда других – он выступает уже не как «эстетический субъект», а как «человек», т.е. изначальное/финальное единство. Однако это сохраняющееся «темное ядро» функционирует через постоянные разграничения – поступать правильно как раз и означает в каждой из сфер принимать ее логику. Религия в этом случае – личное дело каждого, то, что должно быть отделено от других сфер – и чья социальность работает только применительно к ее членам.
Исторический путь к этому состоянию более чем долог – но если выделять ключевое событие, то им станет Реформация, когда прежний, позднесредневековый мир единой церкви, единой веры разрушился. Образ позднего средневековья предполагает наличие единой истинной веры и Церкви – имеющей свою реализацию в Римско-католической церкви. Иноверец – это либо далекое существо, с которым существуют лишь редкие контакты, либо существо, живущее в своем особом, изолированном пространстве, изначально маркированное как «другой», отделенный зримой гранью от моноконфессионального общества.
Реформация привела к тому, что иноверец стал соседом – частью того же повседневного мира, тех же групп, что и ты сам, не отличающийся от тебя внешне, образом жизни, твой сосед, родственник, может быть даже брат или сестра. В конечном счете – после серии религиозных войн (где стиралась грань между войнами внешними и внутренними) – выработалась сначала интеллектуальная программа, затем достаточно полно воплощенная на практике, согласно которой религия есть личное дело – результат личного выбора человека, но этот личный выбор не должен в принципе иметь влияния на политическую сферу – в публичном отношении каждый выступает как «гражданин», равный по отношению к другим таким же, как он, гражданам (на практике, разумеется, этот идеал так и остался недостижимым – например, в ситуации споров о службе в армии как о гражданском долге, применительно к тем или иным религиозным группам, радикально отрицающим военную службу, государство оказалось вынужденным пойти на компромисс, учитывая религиозные убеждения как влияющие на объем налагаемых гражданских обязанностей или, по крайней мере, в смягченной форме, на формы их исполнения).
В идеальном варианте этой секулярной реальности в публичной сфере религию можно не замечать – она вытеснена в пространство интимного, туда, где властвует личный выбор, предпочтения и что угодно еще, но что не должно оказывать влияния на наши права и обязанности в публичной сфере. Здесь мы выбираем религию – как мы выбираем эстетические ценности – в пределах, не противоречащих существующему публичному порядку. Разумеется, мотивы могут быть различны – мы можем переживать это не как свой выбор, но как то, что выбирает нас или как данность, которой нет альтернативы, нечто само собой разумеющееся. Но в пространстве публичного мотивы не имеют значения, всякий религиозный выбор равноценен другому, пока он совместим с существующим публичным порядком.
Во-вторых, то, что можно обозначить как «местные особенности». Если, например, в Западной или Центральной Европе наступление секулярного общества, оттесняя религию в анклав «религиозного», протекало достаточно медленно (а радикальная попытка Французской революции была весьма кратковременна), то в России мы имеем дело с кризисом религиозной традиции на фундаментальном уровне, том, где она крепится, прежде всего – на уровне бытовой религиозности, имеющей мало отношения к догматике, а проявляющейся как способ жить и действовать, в естественности религиозного жеста (естественности, доходящей до неразличимости, когда мы способны осознать наличие религиозного только при его отсутствии – например, попав в город, чей профиль не определяется в центре многочисленными разновременными храмами и церквушками).
В результате любые проявления религиозного поведения, хоть сколько-нибудь попадающие в сферу внимания, вызывают агрессивную реакцию – как нарушение нормального порядка, который отождествляется с радикально анти-православным. Если иные конфессии вызывают нередко достаточно терпимую реакцию, то православие срабатывает как однозначный раздражитель. Иные религии и христианские конфессии нередко воспринимаются как нечто экзотическое и интересное (напр., отношение к буддизму или бахаи), либо как имеющее более высокий социальный статус (напр., быть католиком в России означает принадлежать к «Западу» в его рафинированном виде – русский католик, особенно тот, кто принял эту веру в сознательном возрасте, будет чаще всего отстаивать латинскую мессу, восхищаться довтороватиканскими традициями и т.п. – через это приобщаясь к «старой Европе», той, которая обитает в нашем воображении и которую, не находя ее в Европе реальной, мы удерживаем с еще большей жесткостью). Мусульманство во всем своем наличном многообразии непонятно, чуждо – и, вызывая опасения, в то же время не порождает желания «связываться» с ним, поскольку представляется не принимающим «правил игры» того общества, где существуют дискутирующие интеллектуалы и их массовка. Если исключить ислам из рассмотрения, все прочие религиозные группы, кроме православия, можно принять или, во всяком случае, не реагировать на них – в силу их малозначительности или положительных коннотаций (не важно, насколько соответствующих реальности).
Напротив, православие выступает в качестве религии как таковой – единственной крупной религиозной группы, сохранившей относительно прочную традицию, воспринимающей данное пространство как свое – оно обладает каким бы то ни было, но самостоятельным ресурсом: исторической памятью, миллионами верующих, выстроенной иерархией и амбициями, явно не совпадающими с текущим положением. Однако наша среда не готова признать церковь полноправным участником социальной и политической жизни, образованное общество готово в большинстве случаев ее «терпеть» при том условии, что церковь будет незаметна. Чем меньше ее реальное присутствие в общественной жизни – тем лучше, единственный статус, который не взывает возражений – это статус культурного реликта или музейного объекта.
Собственно, принципиальное нежелание признать хотя бы наличие автономной логики – т.е. границы секулярного мира – проявляется в привычных претензиях по расходованию церковных средств, в заявлениях, например, такого рода: «Вместо храма лучше бы больницу построили». При этом забывается, что единственная цель церкви – Царство Божие. Как бы к этому ни относиться, но если желаешь существовать с другим, то желательно понимать, что является его целью. Все прочее – изначально подчиненное. Причем, поскольку цель имеет бесконечную ценность, то всякие прочие задачи либо что-то значат через свое отношение к цели, либо не значат ничего (выступая чистой фактичностью). (далее…)