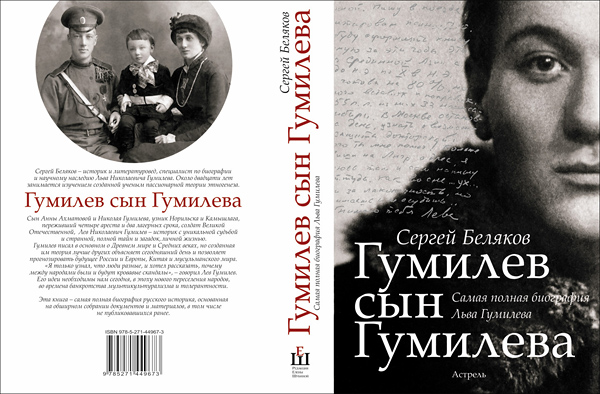Анархист в тенетах революции
Рубрики: Грёзы, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое, Философия Когда: 8 декабря, 2012 Автор: Виктория Шохина
170 лет назад, 9 декабря (27 ноября) 1842 года родился Петр Кропоткин

В Москве, между Пречистенкой и Остоженкой, рядом с выходом из метро «Кропоткинская» стоит памятник Энгельсу, который в народе считают памятником Кропоткину. Иногда здесь собираются те, кто называет себя анархистами. Вот юноша декадентского вида читает здесь из Лимонова: «По улице идет Кропоткин/ Кропоткин шагом дробным/ Кропоткин в облака стреляет/ Из черно-дымного пистоля…». Ему хлопают. И ничего, что памятник — Энгельсу.
Рождение революционера
Как-то гувернер-француз показал юному князю картинку из «Illustration Francaise». И долгое время революция представлялась ему в виде смерти, «скачущей на коне, с красным флагом в одной руке, с косой в другой, чтобы косить людей».
Да, революция была дамой страшноватой. И все-таки князь Кропоткин стал революционером. Но не сразу. Он с отличием окончил престижный Пажеский корпус и был назначен камер-пажом императора Александра Второго. Его ждала завидная, блестящая карьера. Однако камер-паж попросился в Сибирь. Царь спросил: «Тебе не страшно ехать так далеко?» — «Нет, я хочу работать, — отвечал 19-летний юноша, — в Сибири так много дела, чтобы проводить намеченные реформы». В реформы он верил истово. Ну а еще его гнал азарт, охота к перемене мест. (далее…)