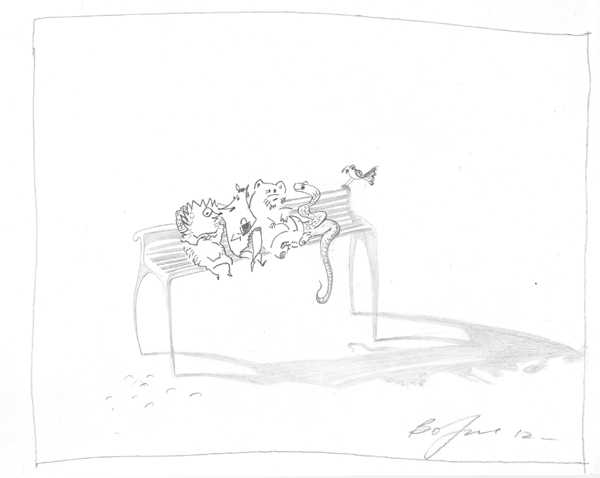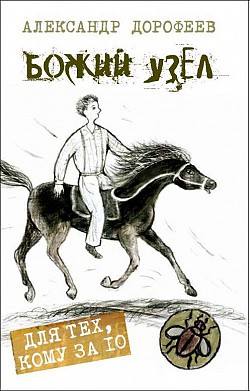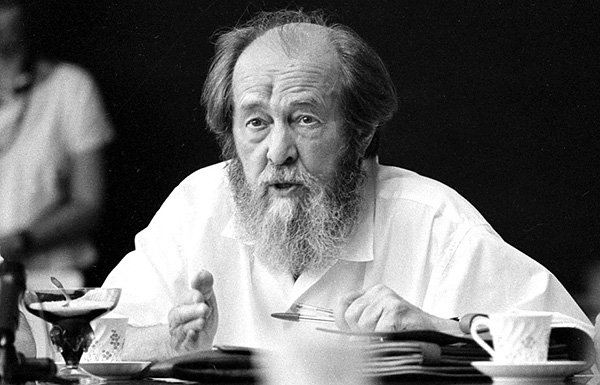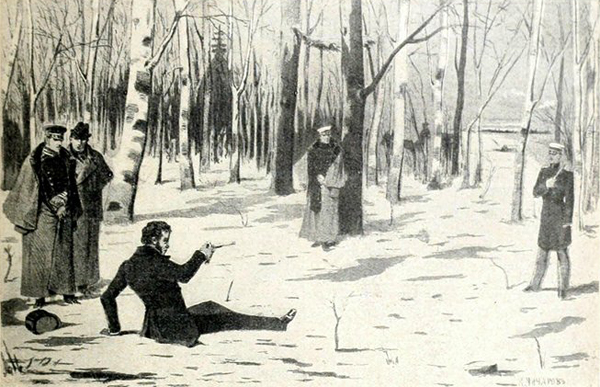Из подполья
Рубрики: История, Культура и искусство, Литература, Мысли, Перемены, Прошлое Когда: 27 февраля, 2013 Автор: Олег Павлов

В своей работе «Диссидентство как личный опыт» писал Андрей Синявский: «Отказ от советской идеологии предполагает не только инакомыслие по отношению к этой идеологии, но также разномыслие внутри инакомыслия». Однако ещё важнее, что отказ от советской идеологии предполагал существование в подполье или, иначе, существование подполья – и подпольных идей, с их утопизмом и духовным максимализмом.
Народничество эпохи Успенского и Михайловского кончилось духовно в революционных кружках. А народничество времён Твардовского – в диссидентских. Вот что формулировал революционер, скажем, в лице Троцкого: «Для нас факт остается фактом. Ржаное поле, как оно есть, не приняло интеллигента, как он есть. Социальные условия деревни встали в противоречие с задачами интеллигенции» Точно так же советские диссиденты, с их идеями и подпольем, куда загнаны были мечты о политической свободе, формулировали новые задачи, например, Григорий Померанец: «Интеллигенция есть мера общественных сил — прогрессивных, реакционных. Противопоставленный интеллигенции, весь народ сливается в реакционную массу».
И тогда, на рубеже семидесятых, вдруг появляются обращения к власти, казалось, обличающие её, но взывающие к соглашению с ней же: письмо Григория Померанца к XXIII съезду партии, «Письмо руководителям партии и правительства» Сахарова, Турчина, Роя Медведева – и ответное, только уж не от партии, «Письмо вождям Советского Союза» Солженицына. Конечно, выдвигались условия. Главное и общее: прекращение политических преследований, идеологическая перестройка. Всё это уже письма из подполья. Это как бы два плана по отказу КПСС от своей идеологии, в которых заявляются новые исторические цели для страны – а, по сути, ставящие перед выбором: демократические реформы под её руководством – или русское национальное возрождение под её контролем. За подписью Сахарова: «Демократизация, проводимая под руководством КПСС в сотрудничестве со всеми слоями общества, должна сохранить и упрочить руководящую роль партии в экономической, политической и культурной жизни общества.» Солженицын: «Вы, конечно, не упустите сохранить свою партию как крепкую организацию единопособников и конспиративные от масс («закрытые») свои отдельные совещания. Но расставшись с Идеологией, лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства, а исполнила бы национальные задачи». (далее…)