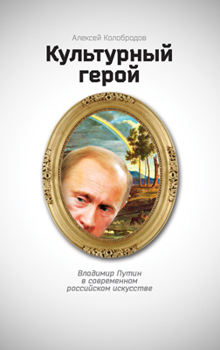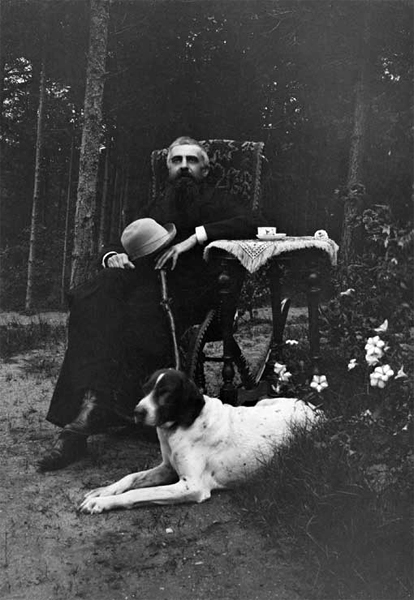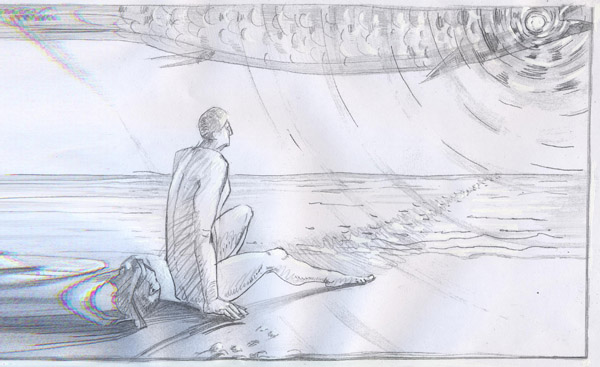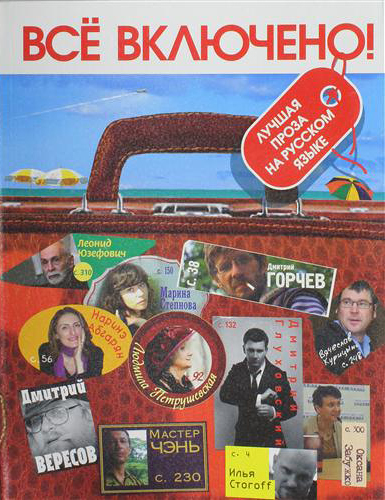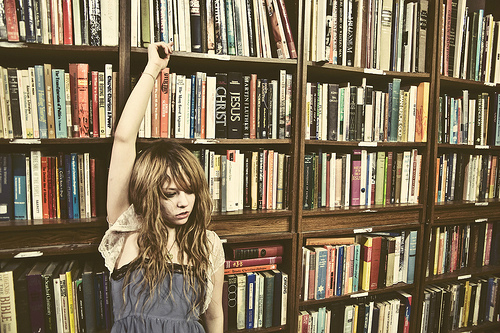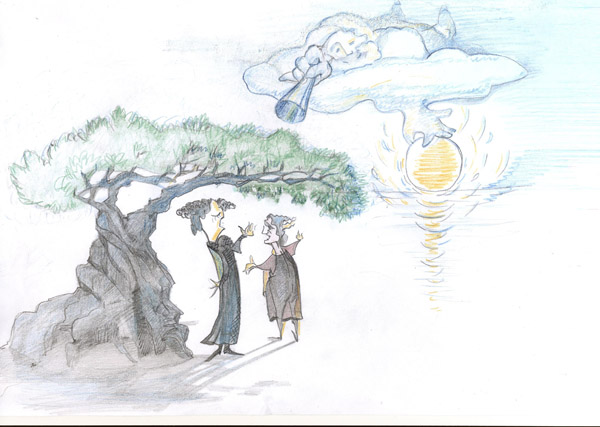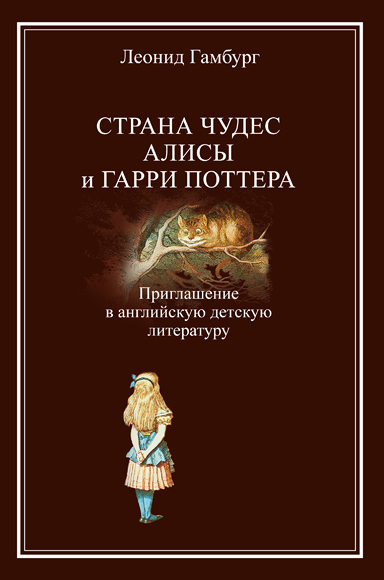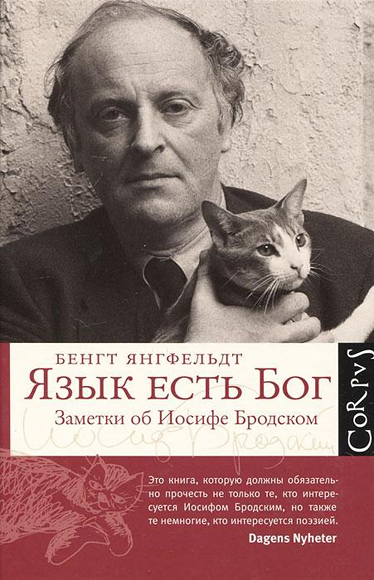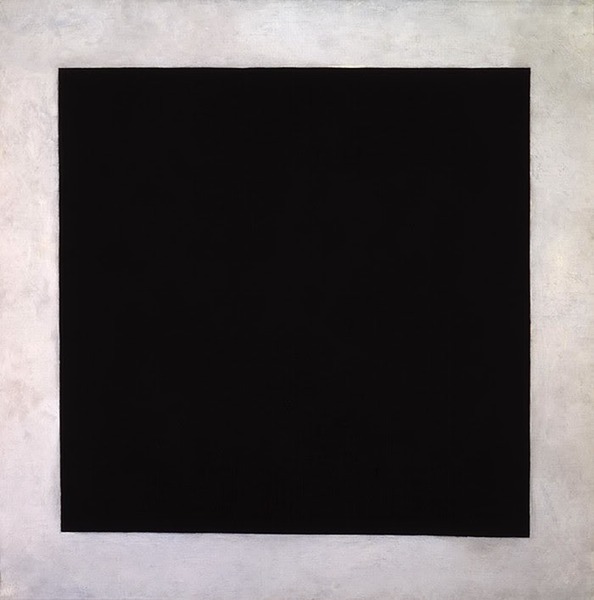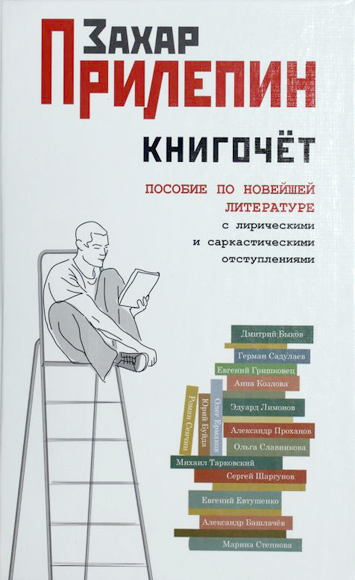Вороны
Рубрики: Литература, На главную, Опыты Когда: 4 февраля, 2013 Автор: Михаил Никитин

— Кыш ты, зараза! — ругнулась пожилая тетка в пуховике, раскладывая на подставку упакованные в кулечки овощи.
— Ты новенькая что ль? Ты ж возле «Магнита» вроде сидела раньше…? — спросила ее другая, в чёрном платке, в сером длиннополом плаще с чёрным воротником, что тоже ютилась у входа, с таким же нехитрым товаром.
— Сидела и что с того? Теперь здесь буду сидеть… кыш! Не успокаивалась тетка в пуховике, отгоняя от своего товара важно вышагивающую вдоль ряда бабулек-торгашек ворону.
— Слышь, ты, сердешная! Ты Ксюху не гони, и руками не махай! А то, не будет нам никакой торговли! Щас, в десять, магазин откроется, она сядет на поручни крыльца и будет сидеть спокойно… А тронешь ее, она гаркнет во все свое воронье горло, их туча налетит! Мало того, что они весь день на тебя каркать будут, еще и засерут тут все!
— Так это та ученая ворона, про которую говорят? Я думала плетут все… — опешила тетка в пуховике.
— Хм, «плетут»…?! Вот её Васька, покойничек, вЫходил, когда мальчишки гнездо на крыше магазина разорили, она упала, еще птенчиком была, — крыло сломала… выходил ведь, лечил… У себя в каморке держал. А подросла…, ворона-то, так у него всегда на плече сидела… Он грузчиком здесь и работал. Известное дело — выпить любил. А вот когда выпьет, ворона, — Ксюха то бишь, — от него улетала! Сядет вот на ветлу энту и каркает, и каркает…! Страсть пьяных не любит! Всех бомжей от магазина отогнала, клюв у нее вишь какой, как долбанет по башке, — в кровь! Вот он её и приучил с собой на работу мотаться. Сам на работу, — и она тут же. Вот она к открытию, по старой памяти и прилетает. Он ящики, товары разгружает, бывало, а она тут сидит на крыльце и ждёт. Сама видела: стОит им за стол, обедать, как она к ему на плечо и он ей сырку обязательно в клюв подает… это как заведено уж…
— Ишь ты, и назвали — Ксюха! — словно харкнула на последнем слове, — усмехнулась тётка в пуховике.
Слово «Ксюха!» она произнесла пугающе резко, или ворона действительно знала свое имя, только она тут же остановилась, развернулась к тётке в пуховике и разинув широко клюв проорала: «ка-а-ррр!» (далее…)