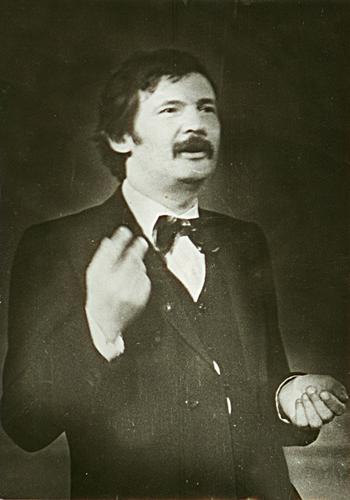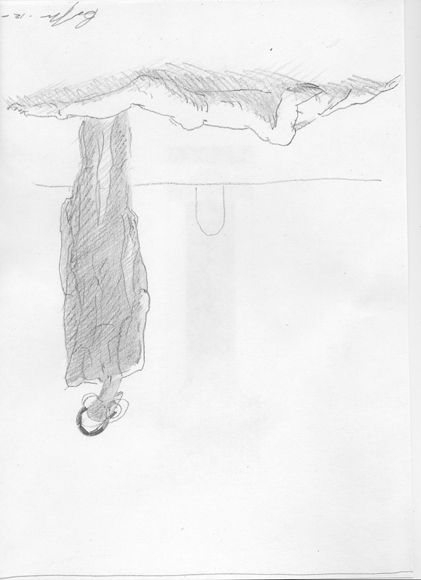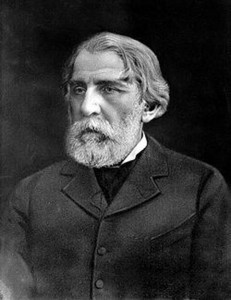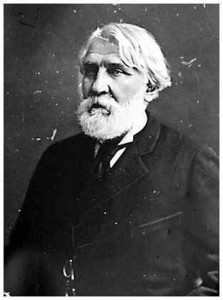ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ.

7. Владимир Берязев.
Сибирский поэт, дебютант нашего конкурса. Крепкая, несколько сучковатая патриотика. Интонация, скорее, заёмная; мысли, во всей их незатейливости, самородные… Напомнил мне питерского поэта Сергея Дроздова, погибшего несколько лет назад. Либералы его не печатали. Я послал стихи Дроздова в газету «Завтра», но там их почему-то не напечатали тоже.
По пологим снегам вдоль берёз по холмам невысоким
Мы поедем с тобой на восток в Буготакские сопки,
Где над настом прозрачные рощи слегка розоваты,
И просторы воздушные дремлющей влагой чреваты.
Снова в глянцевых ветках февраль привечает синицу,
И меняет оковы мороза на льда власяницу,
Чтоб по корке наждачной сосновое семя летело
По полям по долам до златого от солнца предела.
Мы поедем в деревню, где в бане поленья багровы,
А «Лэнд-Ровер» на старом дворе популярней коровы.
Там над прорубью цинковый звон, и вторую неделю
Месяц плещет хвостом, в полынье поджидая Емелю.
Я по-русски тебе говорю, пригубивши водицы,
Не годится роптать, коли тут угадали родиться.
Я, как старый бобёр, здесь — подвластный и зову и чуду —
По весне, после паводка, буду мастырить запруду…
8. Владимир Богомяков.
Тюменский поэт. Профессор. Участвует в конкурсе во второй раз. Михаил Булгаков жаловался жене на ружье со сбитым прицелом: целюсь, мол, точно, а все время промахиваюсь. Схожее ощущение у меня от стихов В.Б.: пуля летит в десятку, именуемую шедевром, но в последнюю долю секунды виляет куда-то в сторону. Но вообще-то поэт примечательный и, может быть, замечательный.
Хайдеггер писал, что кирзовые сапоги увеличивают скорость ходьбы.
А полусапоги из полиуретана не канают и в штате Монтана.
Хайдеггер вязал рыбачьи сети перед лютыми кудесниками во дворе.
За 20 секунд свернул из бумаги Феофана и подарил сопливой детворе.
Так потом Феофан и остался у мальчонок.
Честно говоря, боялись его допускать до девчонок.
Петина душа стала вроде синички и влетела в большой и тёмный дом.
Там раздутый Феофан безглазый сидел за деревянным столом.
«Кто тебя звал сюда? Что тебе надо, мать твою дурака ети?»
А душенька ударялась в стены и окна и от страха не могла ничего произнести.
Вздохнул Феофан, отворил окошко и душа, не помня себя, в небеса унеслась.
А Феофан пошёл и поставил чайник, вздыхая что в доме тараканы и грязь.
9. Ксения Букша.
Петербургская поэтесса (и прозаик). В третий раз участвует в конкурсе. «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке». Понятно всё, кроме одного, — а зачем всё это написано. При том что и написано, повторяю, неплохо. Самодостаточный поэтический мотив мне удалось разглядеть лишь в одном – не похожем на остальные – стихотворении. Вот оно: (далее…)