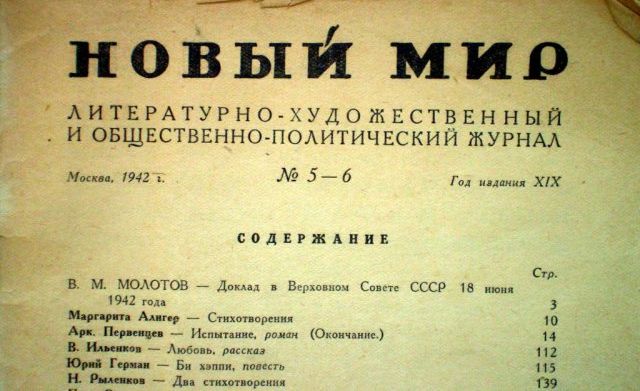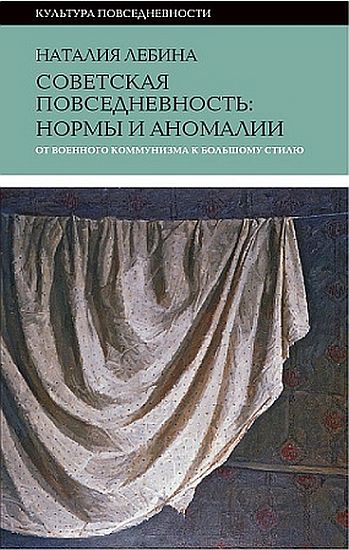Современная керамическая студия,
за гончарным станком сидит девушка.
Нога бьёт по приводному кругу.
Курит, пальцами-пинцетами вынимая
изо рта самокрутку. Останавливает круг,
думает, что делать дальше — она
недовольна своим произведением.
Девушка берёт пакет с табаком,
высыпает его на ладони, прикладывает
их к вазе.
Древние иранские арийцы переселились
на Север, чтобы избежать
исламизации… Поселились они в низовьях
Волги, рядом с хазарами и волжскими
булгарами. Дело было в VII веке…
На берегу реки Мокши — это приток
Оки — они основали одноимённый
городок — Мокша.
Панорама Наровчата
Ныне это районный центр в
Пензенской области — город
Наровчат. А бежавший народ
в арабских летописях называется
Буртасы. Центральная площадь
города. Частный сектор: дома,
заборы. Люди занимаются огородами:
овощи, теплицы; идут в магазин,
выпивают.
Буртасы селились «гнездами» —
усадьбами родственных коллективов.
Среди прочего в них располагались
разного рода культовые
сооружения, в частности, семейные
святилища огня, окруженные, так
сказать, «домашними» кладбищами
и погребениями животных,
заколотых в ритуальных целях.
Эпизод 3
Фотоматериалы. Герб города Наровчат:
«В лазоревом поле на золотой
земле с тремя черными пещерами
в ряд — серебряная гора с двумя
таковыми же пещерами в основании,
увенчанная золотым лавровым
венком». Памятник княгине
Норчатке. Голос автора.
Название городка Наровчат связано
с легендой о прекрасной княгине
Норчатке. В 1237 году монгольские
орды пришли в Наручадскую
страну — так в русских летописях
именовался ареал обитания
буртасов, окончательно разгромленных
в 1431 году войсками князя московского
Василия III.
Наплыв. Зима. Гора Плодовая. Вид
с горы: медленная вертикальная
панорама с хмурящегося неба;
Церковь иконы Божией Матери,
трапезную и другие строения Сканова
пещерного монастыря: кельи-вагончики,
дровник, часовня над купальней. (далее…)