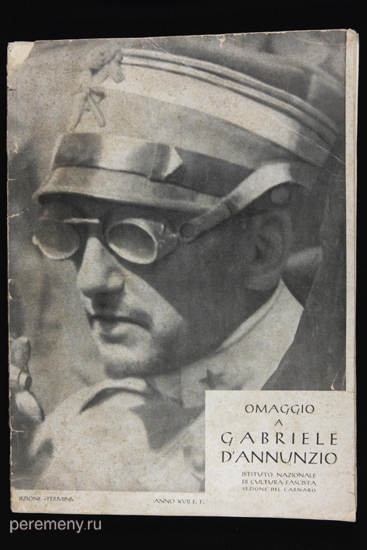Мастер Чэнь — это псевдоним Дмитрия Косырева, востоковеда, выпускника Института стран Азии и Африки при МГУ и Наньянского университета (Сингапур). Дмитрий много лет работал корреспондентом разных российских газет в странах Юго-Восточной Азии. Сейчас трудится политическим обозревателем РИА «Новости». И пишет детективные романы. Его только что вышедший в издательстве «АСТ» трэвелог «Магазин воспоминаний о море» тоже не лишен детективной составляющей, хотя это не роман, а сборник рассказов — легко и популярно сработанных забавных историй, происходивших с автором (в основе, по словам Чэня, реальные события) в Индии, Индонезии, Таиланде, Малайзии и т.д. Издательство «АСТ» представило нам возможность опубликовать для примера один из этих рассказов. Мы выбрали самый первый. Называется он «Её сиятельство».

— Прошу подать на еду.
В Азии привыкаешь не замечать нищих, не поднимать головы от стола — если сидишь; с резиновой улыбкой обходить их — если шагаешь. Они не будут долго беспокоить вас, они никогда не решатся на физическое прикосновение, они не опасны.
Но когда ты слышишь эти четыре слова… вообще-то три на английском — begging for food… и на каком английском! Вот трансляция из британского парламента, ее величество в куполообразной короне неспешно надевает очки, раскрывает папку у себя на коленях, и… вы слышите и понимаете каждое слово — произнесенное негромко, раздельно, с почти нечеловеческой четкостью, благосклонно и терпеливо. Королевский английский. Несравненный и неподражаемый.
И это был именно тот английский, который я только что услышал.
Невозможно было не поднять в ответ голову от алюминиевого, пустого пока что столика «Бхадху Шаха». Невозможно было равнодушной быстрой полуулыбкой отделаться от этой женщины, стоявшей передо мной на тротуаре, в шаге от границы, разделявшей ресторан и улицу.
Она, казалось, на расстоянии приподнимала мне взглядом подбородок… я вздернул голову еще немного, встретился с ней глазами — а если ты посмотрел на нищенку, то она одержала первую победу, и скорее всего ты что-то ей дашь.
Но уже по королевскому английскому можно было догадаться, что нищенка — кто угодно, только не вот это.
Европейцы в Азии — это не одна порода людей, а несколько. Есть туристы в шортах и безразмерных майках, всегда с видеокамерами; есть бизнесмены в промокших на спине рубашках с галстуками; и то и другое — классика. А тут был, конечно, тоже классический вариант, но совсем другой. Бесспорно европейская женщина, рыжеватая блондинка, но… широкие, суженные к щиколотке марлевые штаны, длинная, ниже колен, рубашка такой же ткани, шарф-накидка… в общем, пенджаби, очень дешевое. Небольшой матерчатый рюкзак за плечами. И все это — с оттенками выцветшего шафрана и серой пыли.
Эту одежду носили, не меняя, уж точно больше года. Эти ноги в простых сандалиях наверняка несут ее от храма к храму — Шива, Кришна, Мухаммед, Будда, Гуаньинь — месяц за месяцем, сотни, если не тысячи километров. Копеечные автобусы, поезда или просто дорога под ногами.
И лицо — с потемневшей кожей (она светлее только в глубине двух морщинок у носа), с благосклонной и несколько отрешенной улыбкой, длинным, чуть выставленным подбородком.
Ее наблюдавшие за мной глаза смеялись — скорее добродушно. (далее…)