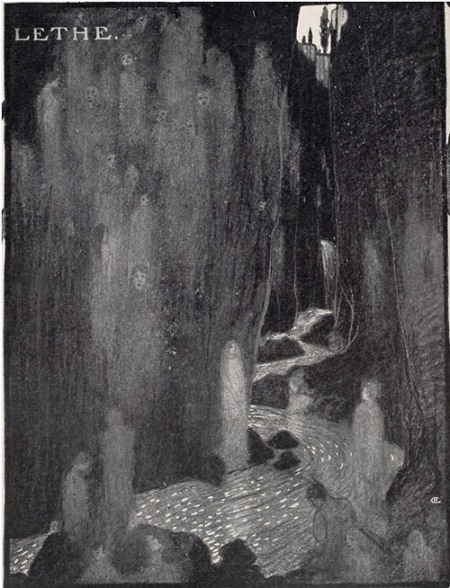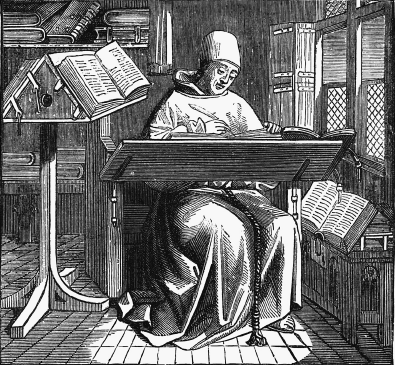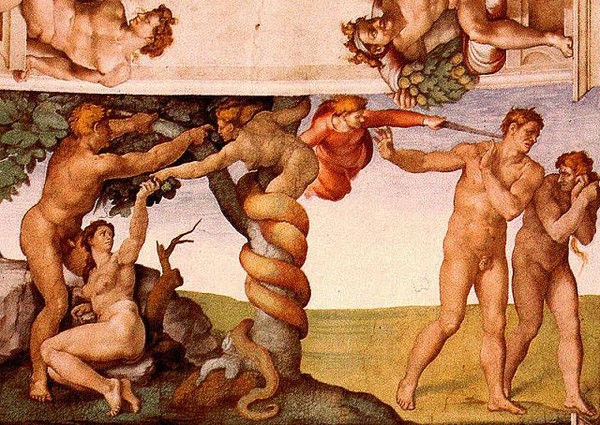О русском консерватизме как о бездомности
Рубрики: Будущее, Грёзы, История, Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Философия Когда: 16 июля, 2012 Автор: Андрей Тесля
Камнев В.М. Хранители и пророки. Религиозно-философское содержание русского консерватизма. – СПб.: Наука, 2010. – 470 с. – (Серия: «Слово о сущем»).

Главная тема книги впервые проговаривается отчетливо лишь в послесловии – обращая весь предшествующий текст в своего рода предуведомление – и выводя его из рамок описательности. Этой темой оказывается бездомность, внешне парадоксальным для исследования консерватизма образом. Ведь консерватизм вроде бы как раз сосредоточен на тематике «дома», «отчего места», всегда предполагая, что есть куда возвращаться. Но в то же время в консерватизме есть и оборотная сторона – рождаясь как реакция на Французскую революцию, он изначально существует с сознанием хрупкости традиции, с сознанием, что тот «дом», который есть, может легко быть разрушен (или, что, пожалуй, преобладает – разрушается в данный момент).
Отсюда и историчность консерватизма – он не тождественен принадлежности к традиции, он всегда начинается с ее осознания. Более того, традиции уже траченной или поставленной «под удар».
В этом смысле консерватизм принадлежит к модерному обществу, единый со своими оппонентами в отчужденности от общества традиционного. В последнем традиция – данность, она как целое не только не требует рефлексии, но и чуждается ее (как осознание своего молитвенного настроя разрушает настрой). Для консерватизма, напротив, традиция уже более не «само собой разумеющееся» – ее нужно удержать, реставрировать или вовсе возродить. Но возрожденная традиция, прошедшая через осознание (осознанная) уже иная. (далее…)