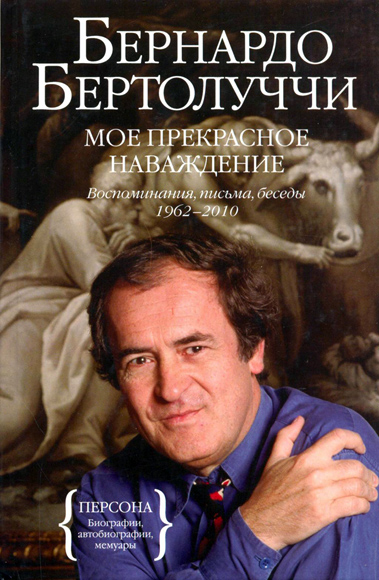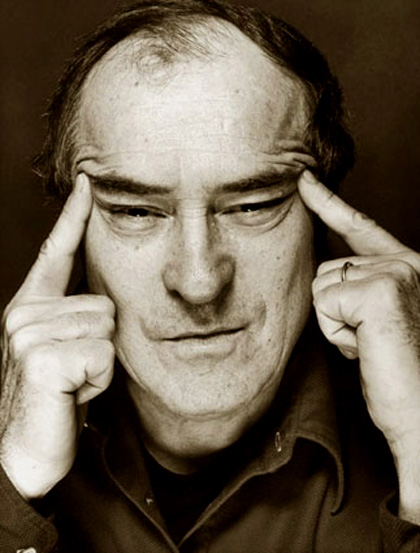16 марта 1941 года родился итальянский кинорежиссёр, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи
К этой дате Перемены публикуют фрагмент книги «Мое прекрасное наваждение : Воспоминания, письма, беседы (1962–2010)», Бернардо Бертолуччи ; Пер. с ит. Т. Риччо. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, — 2012. — 304 с. — (Серия “Персона”). Публикуется с согласия издательства «Азбука-Аттикус».
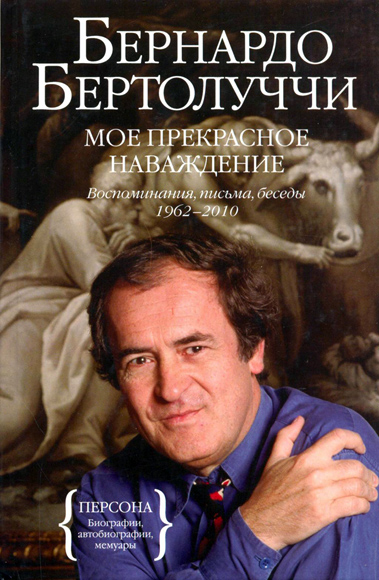
I was born in a trunk
Вслед за Джуди Гарленд в фильме “Звезда родилась” я мог бы сказать: “I was born in a trunk in a Paris theatre” (“Я родился в сундуке в парижском театре”). То есть искусство у меня в крови. Я всегда знал, что мой отец, кроме того что преподавал историю искусства в одном из лицеев Пармы, был поэтом. В доме часто звучало слово “поэтический”: оно употреблялось в самых странных, нелепых и неожиданных ситуациях. Моя встреча с поэзией произошла абсолютно естественно: я хотел подражать отцу и до поры до времени с присущим детям конформизмом полагал, что, когда вырасту, стану поэтом, вроде того как сын крестьянина хочет стать крестьянином, сын столяра — столяром, а сын пожарного — пожарным.
Школой поэзии для меня был мой отец и его “окружающая среда” — это называлось имением. Мы жили в пяти километрах от Пармы, в местечке Бакканелли, у развилки дороги, идущей к перевалу Чизы, а затем спускающейся к Ла-Специи. Там был наш дом — “очаг цивилизации”, рядом дом крестьян — “деревня”, а вокруг — принадлежавшая нам земля, имение, совсем не такое, как в фильме “ХХ век” — гигантской проекции моих давних воспоминаний.
Бакканелли находится примерно на полпути между городом и холмами, и с верхнего этажа дома в ясную погоду можно было увидеть башни Пармы с одной стороны и холмы — с другой. Еще выше, за холмами, возвышались Апеннины, а там — еще одно место из стихов моего отца, деревня Казарола, откуда родом семья Бертолуччи. Мы ездили туда каждое лето на каникулы, проведя месяц-полтора на море, в Форте-деи-Марми. Порой мы месяца по два сидели в этой горной деревушке без дорог, куда не попадали случайные туристы, а зачастую и газеты: почтальонша то привозила их, то нет. Эту вселенную, с виду такую маленькую, я обнаружил в первых же сочинениях, которые с удовольствием стал поглощать, едва научившись читать, — в стихах моего отца. Он был для меня стражем, певцом и королем своего микрокосмоса. У него есть стихотворение, посвященное моей матери, а в нем такие слова (цитирую по памяти): “Ты как белая роза в глубине сада, к ней прилетели последние пчелы…” Дойдя до конца крошечного садика, я находил там белую розу. Из этого примера понятно, почему поэзия для меня никогда не была связана со школьной рутиной, как чаще всего случается. Скорее она имела отношение к моему дому, став частью привычного пейзажа. Хотя у меня остались лишь смутные воспоминания, но я знаю точно, что в раннем детстве путал отцовский и материнский образы и забавлялся, называя мать “мапа”, а отца “пама”. Моя мать родилась в Австралии, в Сиднее, от матери-ирландки и отца-итальянца. Семья вернулась в Италию, когда маме исполнилось два года. Я гордился бабушкой по имени Маллиган, и мне ужасно нравилось, что во мне течет четверть ирландской крови. Мать тоже преподавала — вела литературу, однако всегда держалась в тени отца, служа ему надежной опорой, в которой он вечно нуждался. Я не раскрою никакого секрета, сообщив, что мой отец — великий ипохондрик и всегда пребывает в тревоге, это и так ясно из его стихов, да он и сам постоянно об этом твердит.
Я начал сочинять стихи, как только научился писать, лет примерно в шесть. Разумеется, я показывал их отцу, и так крепло подражание-соревнование, которое часто возникает между детьми и родителями и лежит в основе всей диалектики отношений отцов и детей. Я знаю, что моя старая няня сохранила тетрадку с моими первыми стихами, написанными еще совсем нетвердым почерком. От шести до двенадцати лет я писал рифмованные стихи, подражая тем, что изучают в школе. Вероятно, у меня сильная склонность к подражанию, поэтому я в конце концов и спрятался за кинокамерой, способной, как никакая иная вещь на свете, создавать подобие жизни, зеркало, которому нельзя солгать (впрочем, его часто используют для распространения лжи).
Лет до двадцати пяти — двадцати шести я всегда вспоминал свое детство и отрочество как время полной безмятежности, счастья, волшебства. Я жил, необыкновенным образом осознавая, как течет время, потому что один из основных элементов поэзии моего отца — это как раз течение времени, течение часов, времен года, лет, минут, секунд. Мое детство прошло в деревне, и сколько же в нем было выдумок и фантазий, сколько игр, недоступных в городе, немыслимых в четырех стенах городских квартир, и с тех пор, даже когда мы переехали в Рим, я всегда испытывал потребность в обширном, ничем не загроможденном пространстве. Это было детство, наполненное пряными деревенскими запахами и играми, которые гораздо раньше, чем в городе, приобщали нас к сексуальным приключениям. В деревне дети очень рано делают открытия в половой жизни, наблюдая и за животными, и за людьми… (далее…)