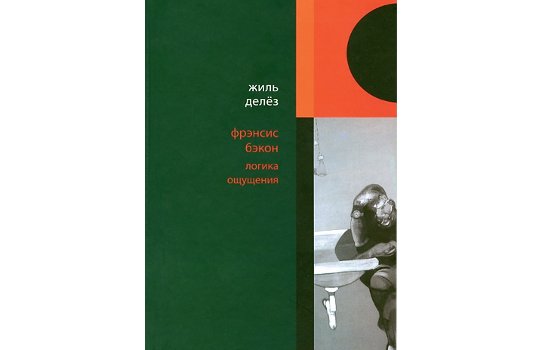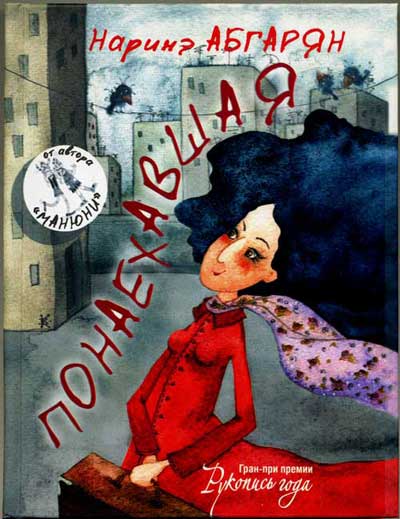У каждого старого года есть свое, своеобразное обаяние. Есть города, в которые влюбляешься сразу, есть такие, в которых нужно некоторое время пожить, чтобы полюбить, есть неуступчивые, трудные города, скрывающиеся от туристического взгляда, красота и обаяние которых открываются почти исключительно местным жителям. Но любой старый город способен очаровать – пусть на самое краткое время – уже только за счет своей старины.
Старый город – не обязательно старый во времени. Нью-Йорку, например, уже почти четыреста лет, но подумать о нем как о старом городе практически невозможно. И, напротив, Вена всю свою историю в качестве крупного города отсчитывает с 1683 года, когда исчезла постоянная угроза турецкого завоевания и город перестал быть передовой крепостью – так что в определенном смысле она младше Нью-Йорка.
Старый город – это город, несущий на себе следы собственной истории, сохраняющий свое прошлое, укоренный в нем. Собственно, этим он и отличается от «музейных» городков, существующих «вовне»: ради туристов, наезжающих в них и восхищенно фотографирующих местных жителей, оказавшихся музейными смотрителями или экспонатами музея, которым стал город. Настоящий старый город существует сам по себе – приезжий в нем попадает в пространство, живущее по собственным законам, воспринимает себя как постороннего – чужака, которому может быть уютно или неуютно, нравится или не нравится в городе, куда его занесло или куда он целенаправленно стремился – но он всегда ощущает, что за той частью жизни, что повернута к нему, находится большая и сложная, скрытая от его глаз, самостоятельная жизнь города, только принимающего путешественника, а не существующего ради него.
Кстати о путешествиях: в наши дни уже трудно представить себе настоящее путешествие, такое, каким оно было хотя бы лет пятьдесят – сто тому назад, не говоря уже о путешествиях минувших веков. Мир стал мал – и очень знаком для «маленького человека»: путешественник стал туристом, из аристократа или авантюриста сделался «массовым человеком» среднего класса – и всюду на своем пути, туда, куда пролегают популярные и не очень туристические маршруты, он находит все ту же знакомую ему среду. Сейчас мы можем объездить почти весь мир, не встретившись с другой, отличной от нашей, жизнью: туристические маршруты заботливо оберегают нас от этого, путеводители пунктиром обозначают места пеших прогулок и отдельным перечнем указывают места, где бывать не следует, ранжируя последние в зависимости от того, с чем именно можно столкнуться в этих самых «нежелательных местах», служа тем самым (с тихой ухмылкой) удобным указателем от обратного – дабы турист мог найти «неправильное» место на свой собственный вкус. На туристических маршрутах стоит неизбежный Starbucks и столь же неизбежный McDonalds с парой-тройкой своих конкурентов-двойников, сопровождаемые ресторанчиками, обещающими «местную кухню» и «местные традиции» на более или менее правильном английском.
И посреди всего этого – воткнуты достопримечательности, top 10 DK, sightseeings путеводителей – храм, пагода, дворец или сад, то, что помечено на карте словами «must see». Они выдернуты из своего пространства, из своей истории и быта – и помещены в стерильную среду «достопримечательностей», того, что помещают на открытки и что так пытаются сфотографировать туристы со всего мира, радуясь, если получится сделать «как на открытке» собственной мыльницей или зеркалкой.
Турист – в отличие от путешественника – избавлен от необходимости погружения в местную жизнь. Он перемещается по нейтральному пространству, не имеющему другого значения, кроме времени, потребного на его преодоление, от одной достопримечательности к другой, послушно и без подсказок фотографируя то, что останется личной копией стандартного фотоальбома – турист создает артефакт, подобный «товарам ручной работы», которыми в промышленных масштабах торгуют большие и малые магазинчики, или «оригинальным местным сувенирам», одинаковыми в Нью-Йорке, Париже или в Вене, изготовленными в Китае, с заменой только названия того города, куда отправится очередная партия этих сувениров. Турист избавлен от столкновения с незнакомым и непривычным – он покупает «местный колорит» тогда и так, когда и сколько этого пожелает. Мир стал доступнее и одновременно куда более сокрыт от постороннего, быстрого взгляда – или, точнее, этот «быстрый взгляд», скользящий по поверхности, стал возможен, ведь только недавно появился его обладатель, защищенный от столкновения с непривычными международными аэропортами, шаттлами, всемирными сетями отелей, принимающих все виды кредитных карт и чеков. Маленький человек, вроде нас с вами, получил возможность совершить свое «путешествие».

Старый город прекрасен неуступчивостью к переменам.
В новом городе не за что ухватиться – любое изменение, увлечение, мода сносит все, что было до этого. В действительности это не так – всегда остается что-то, всегда человек цепляется за камни, привычки, за неправильность, которая только и делает для него переносимой жизнь. Но в новых городах этих неправильностей, сложившихся сами собой, мало – и кажется, что каждая перемена начинает все заново.
Город, укоренный во времени, обрастает привычками, какими-то со стороны непонятными жестами, знаками, способами делать дела – подобно тому, как старые друзья обзаводятся своими ритуалами. Естественная неправильность – то, что отличает старый город и делает его живым. Собственно, единственные живые города – старые, те, в которых жили и умерли многие поколения людей, обжившие это место и, что еще важнее, веками хоронившие здесь своих покойников, передающие быт, уклад, дома и вещи из поколения в поколение: город, существующий не «здесь и сейчас», не ради данного момента, а бывший задолго до тебя и будущий своим для твоих детей и детей их детей.
***
Та Вена, в которую едут туристы со всего мира – очень маленький городок: неторопливо прогуливаясь, его можно пересечь за полчаса, а если идти по Рингу, обходя Вену по окружности, то путь займет – если вы правильный турист и заглядываетесь на здания, обходите их со всех сторон и считаете нужным запечатлеть себя у Афины перед Австрийским парламентом – чуть более полутора часов.
Как и почти у всех старых европейских городов с одним центром, у Вены – радиальная структура, так что как бы вы ни бродили по старому городу, в результате почти неизбежно выйдете либо к Святому Стефану, либо к Хофбургу, либо на набережную Дунайского канала. Не знаю, как воспринимают это жители Ярославля или Владимира, но хабаровчанина, москвича или питерца такая компактность изумляет – только обжившись и походив по обычным европейским городам, начинаешь привыкать к их миниатюрности.
Каждый из нас едет со своими ожиданиями и представлениями – для меня, например, Вена – это Вена Габсбургов, Вена Моцарта и Вена Фрейда, Вена «рубежа веков», fin de siècle. В первую очередь, разумеется, последнее: Гофмансталь и Рихард Штраус, Музиль и Рот, Брукнер и Малер. И в том же городе случился «Венский кружок», и начиналась, не очень задавшись, карьера Карла Поппера.
Казалось, что каждая из этих историй требует своего места – улочки, по которым ходил, а затем, когда дела относительно наладились, ездил к своим пациентам Фрейд, ещё будучи практикующим терапевтом, находились в ином пространстве, чем места прогулок Музиля или кафе, в которых сидели и спорили Карнап со Шликом. (далее…)