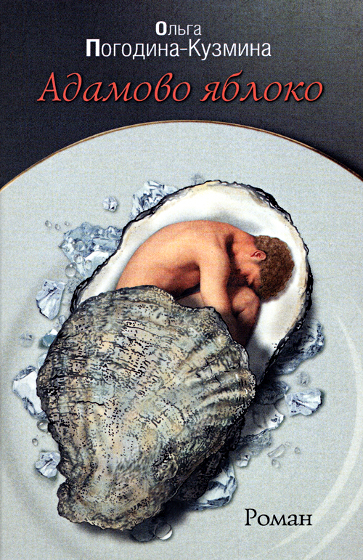Принцип Мальдорора
Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее Когда: 24 ноября, 2011 Автор: Андрей Бычков

Граф де Лотреамон, настоящее имя Изидор Дюкасс, писатель, поэт, автор знаменитых «Песен Мальдорора», шокировавших читателя бесконечными преступлениями, перверсиями и проклятиями в адрес Творца. Родился 4 апреля 1846 г., умер 24 ноября 1870 г.
-
«Я заменяю меланхолию отвагой, сомнение — уверенностью, отчаяние — надеждой, озлобленность — добротой, стенания — чувством долга, скептицизм — верой, софизмы — холодным спокойствием и гордыню — скромностью».
Граф де Лотреамон
Мальдорор – бог. Ибо кто же еще может утверждать, что он жил всегда, перевоплощаться, принимать разные обличья, совокупляться с акулой, вошью и вступать в схватку с самим Творцом? Мальдорор – злой бог.

Неисчислимы его злодеяния против рода человеческого. Он отвергает любовь, предает своих друзей, насилует и убивает невинного ребенка, вступает в противоестественные связи, коварно умерщвляет тех, кто хотел бы верить в него. И при этом Мальдорор не отождествляет себя с Сатаной. Скорее он – сам принцип негативности, последний постулат свободы, отвергающий закон человека и его Творца. Или, выражаясь на языке нашей психоаналитической эпохи, Мальдорор – это принцип воображения, стремящийся взять верх над принципом реальности. Мальдорор как последний бастион человека пишущего, для которого бог является через слова. Но чтобы написать Песни Мальдорора надо не просто «оторвать голову своей совести», надо суметь и самому отомстить себе за это право, надо и самому себе растерзать грудь, ведь такие песни пишутся «на смертном одре».
Сейчас уже не так важно, кем был Лотреамон в действительности. Его след, след его кометы важнее для нас его личности, скрывающейся под псевдонимом некоего графа Лотреамона, о которой нам, впрочем, кое-что известно: малоразговорчивый, стремящийся к уединению молодой человек по имени Изидор Дюкасс, чья мать умерла, когда ему исполнилось всего полтора года. Для нас важнее, кто есть и кем будет Лотреамон в своих последующих воплощениях. И если он вновь появляется сейчас – как принцип, ищущий своего автора и своего персонажа – и если уже сейчас он расправляет где-то свои крылья, то какой облик принимает он на этот раз, чтобы снова сразиться с Драконом, порождающим эту реальность? (далее…)


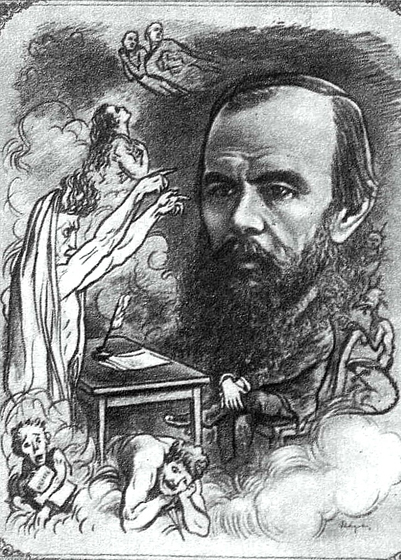

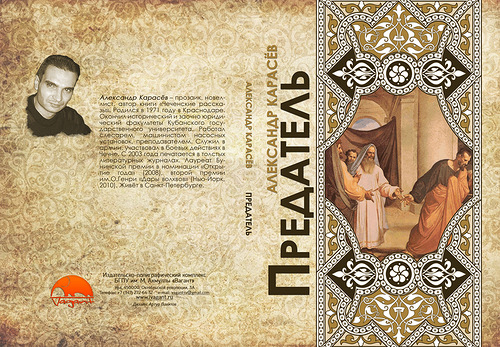





 Мое знакомство с Бали началось окололитературно. С книжки Элизабет Гилберт «Есть. Молиться. Любить». Я как раз вернулась из Италии, где безудержно Ела, совершенно не интересовалась Индией, где полагалось Молиться, и отдаленно знала о Бали, где, судя по заметкам американской писательницы, мне предполагалось Любить.
Мое знакомство с Бали началось окололитературно. С книжки Элизабет Гилберт «Есть. Молиться. Любить». Я как раз вернулась из Италии, где безудержно Ела, совершенно не интересовалась Индией, где полагалось Молиться, и отдаленно знала о Бали, где, судя по заметкам американской писательницы, мне предполагалось Любить.