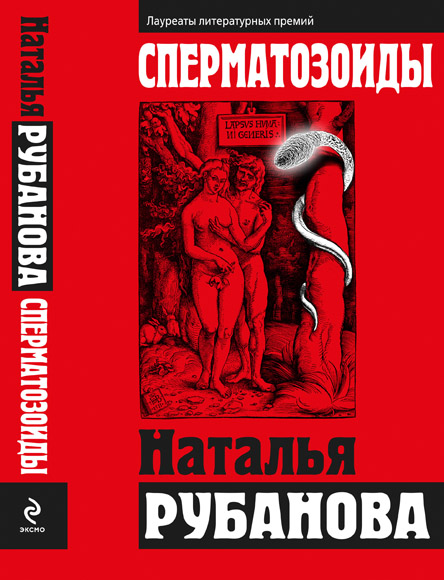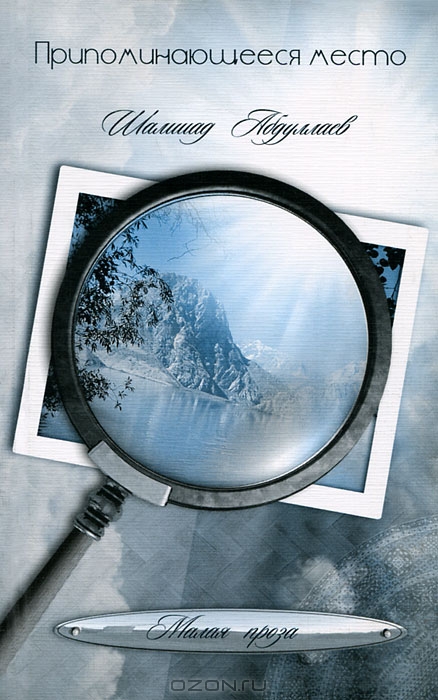Круг земной и небесный. Глава 1. Единокровные
Рубрики: Литература, Люди, Мысли, Перемены, Путешествия Когда: 4 февраля, 2014 Автор: В.М. Зимин
«We be of one blood, ye and I». R. Kipling

«Ты вспомни-ка, мой друг, о том, что было,
Каких мужей сводила я в могилу,
Каких царей лишала я корон,
И замолчи, пока я не вспылила!
Тебе ли на судьбу роптать, Вийон?»
Франсуа Вийон. Разговор с судьбой.
(Перевод Ф. Мендельсона.)
АНГЕЛ
В моей жизни, как и у каждого, случались объятия, но только одно запомнилось на веки вечные.
Серый кот с именем Ангел забрался по рукаву, предплечью, плечу ко мне на грудь и передними лапами обнял меня за шею. Потом тихонько и мягко расправил – обвил – обернул лапы вокруг шеи и медленно сдавил… подержал несколько секунд и так же медленно отпустил. Столько всего было в этом объятии-признании, что я оторопел. «Ты что, Ангел?» – поначалу, в первое мгновение не поняв, спросил я. Он лизнул мне подбородок, щеку, и ещё теснее приник и сжался в этом пространстве, сливаясь с моим телом…
Он был средних размеров, неброской наружности, серый с белым, с обычной шерстью, но котом назвать его я не могу, мне стыдно. Видно, не зря я дал ему такое имя – Ангел, когда он был ещё совсем маленьким, с кулак величиной, неуклюжим и пушистым. Но в глазах уже стояла эта хрустальная чистота, это всепонимающая мудрая ясность, которая и со временем никуда не ушла. А ещё в нём была сила. И физическая тоже – взлететь на гладкий трёхметровый ствол дерева и тут же снова оказаться на земле занимало у него мгновение. Но главное – в нём жила внутренняя сила, заставлявшая взрослых, бывалых, уверенных в себе котов остановиться и обойти стороной этот маленький взъерошенный серый шар, пристально, не мигая следивший за ними открытым взглядом пары прозрачных желтовато-бледных глаз. (далее…)