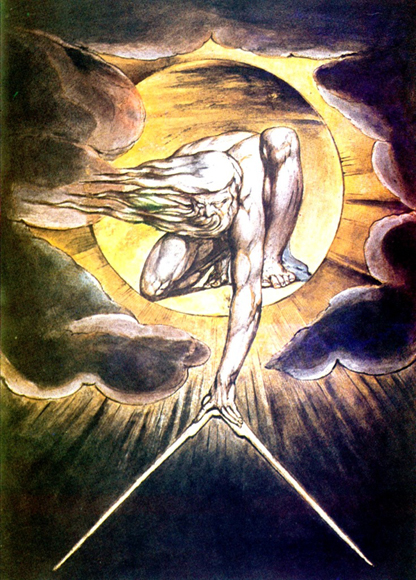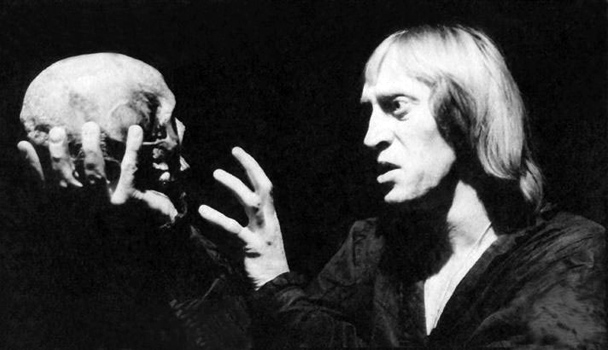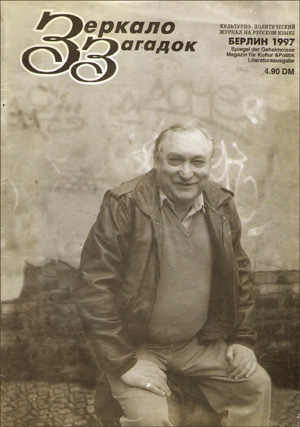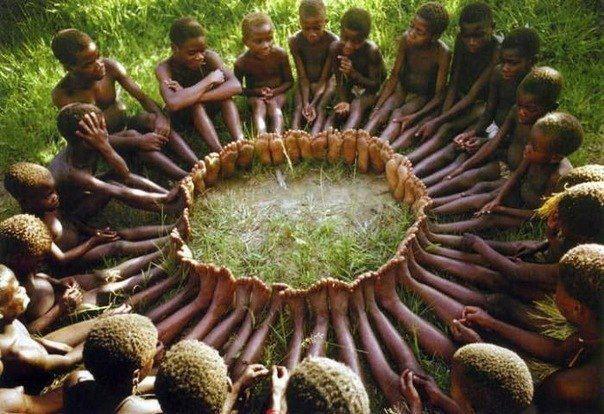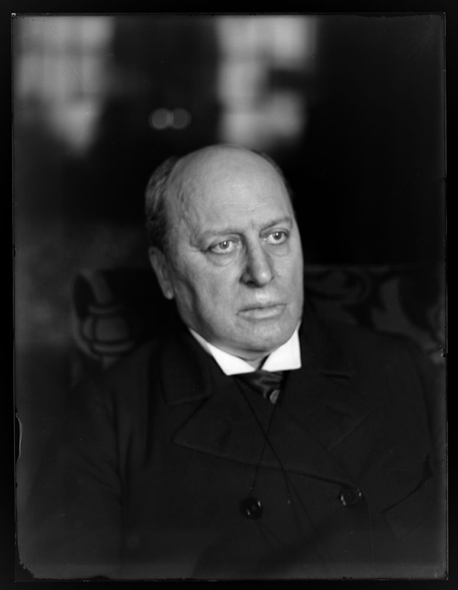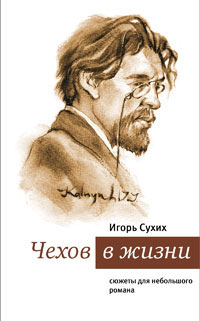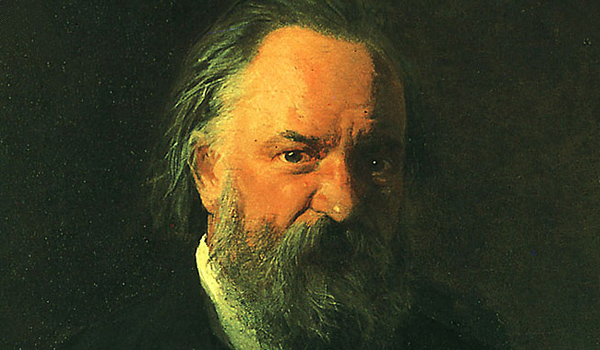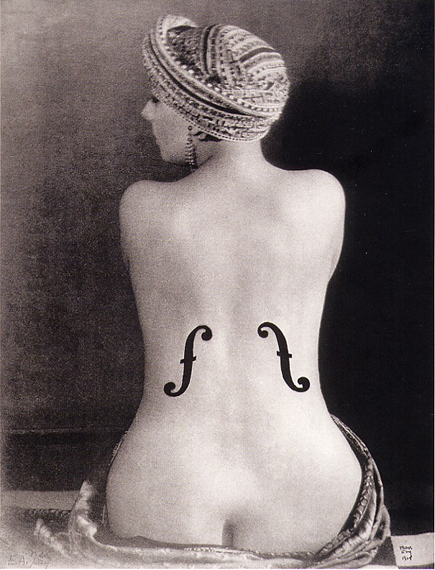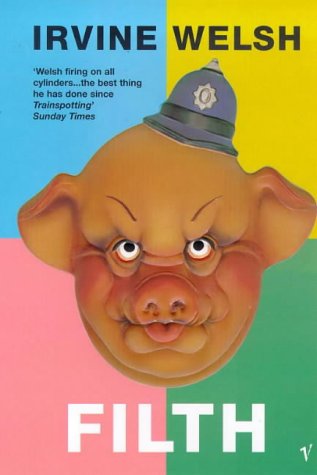От автора: данное эссе, которое, вероятно, можно подверстать к теме не по дням, а по слогам горящих рукописей (см. «Агни-люди»), написано в 2008-м и, кажется, с тех времен не публиковалось – собственно, это текст, с которым автор (назовем «его» – «я») полностью разотождествился, и потому, перечитав «Сальто…» в нынешнем високоснейшем из високосных, удивился тому, что он был когда-то написан: так тоже – и всё чаще – случается, что, впрочем, само по себе ни плохо, ни хорошо.
февраль 2012
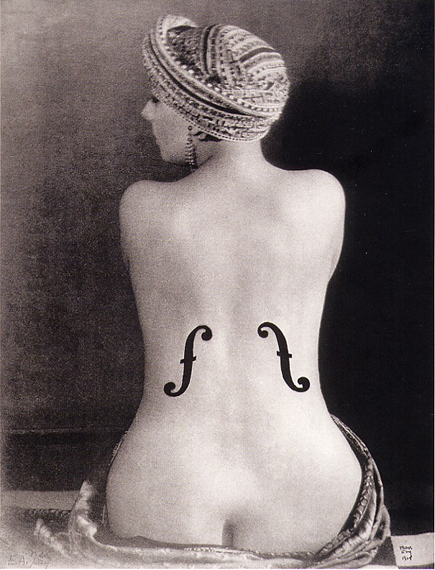
Видимых причин как будто и нет.
Невидимые – где-то глубоко в душе.
Все болит, работать не могу, бросаю начатое.
Леонид Андреев, из письма
Лишь два вида людей творят – поэты и мистики.
Творчество – это качество, которое ты вносишь в деятельность, которой занимаешься.
Это подход, внутреннее отношение – как ты смотришь на вещи.
Ошо
«Давно не пишу», «не пишется», «ступор», «не пишется», «пауза затянулась», «не пишется», «не о чем», «незачем», «не пишется», «не пишется», «не пишется»: глаза говорящего отводятся, тембр голоса понижается – и вот уж щелкает зажигалка, а то и нащупывается заветная фляжка, у кого как. Не все решаются в этом признаться, считая это чем-то постыдным, хотя, на самом-то деле, момент т и ш и н ы оправдан уж хотя б в силу того, что машинке марки ‘writer’ элементарно пришла пора заправиться новым горючим.
Что ж, никаких америк, шедевры нон-стоп – скорее исключение, нежели правило; паузы – ферматы – необходимы: текст аккурат нагуливается – чем не ихний бэбик?
И всё б ничего, кабы процесс временного м о л ч а н и я (именно процесс, а не бесплодное аморфное «ничто») протекал менее болезненно: «А вдруг никогда больше?..» – кто из пишущих не думал так хотя б однажды? Автор этих строк, разумеется, не исключение; автор этих строк знает о подобной «бяде» не понаслышке – одно время он, автор, даже баловался рецензиями, дабы не забыть, как связываются слова в чудом живые предложения: впрочем, то был дельный опыт, перечеркивать его нет смысла – более того, опыт оказался в чем-то полезен: так полезны, скажем, какие-нибудь «овсяные» (и пр.) дни, после которых так называемая нормальная пища приобретает совершенно иной вкус… ненадолго, и всё же.
Помню, в один из таких vegetarian-статейных периодов мне позвонила некая критикесса и, услышав в трубке непишущийся – прилагательное, слитно – голос, с надеждой поинтересовалась: «О, так у вас, наверное, творческий кризис?..» Я сменила тему – жаловаться на это по меньшей мере смешно: энергия, затраченная на само формулирование подобного «диагноза», уже отбирает силы; мыслеформа «не пишется» действительно парализует, причем всякого.
Вскоре я услышала от одного литера-веда вполне безобидное (так под шумок сплетничают): «Да он же (далее фамилия ***) исписался!» – и плюнула слюной, как учили-с ***: а чем еще?.. (далее…)