SUFFERING FOR THE MASSES. Trip 7
25 декабря, 2011
АВТОР: Василий Доквадзе
НАЧАЛО (Trip 1) — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРИП — ЗДЕСЬ

Магия, улыбки, учащенное сердцебиение, ощущение абсолютного счастья. И холода за окном не помеха, ведь отныне пришло счастье, а счастье – оно греет. И я засыпал с этими мыслями в башке. А проснувшись, увидел за окном лишь камни и первый снег. И ощущения счастья как не бывало, словно всё это было не более, чем мечты.
Ощущение полной беспомощности. Вечная погоня за счастьем вновь продолжается. На то, собственно, она и вечная…
«Что ж, значит, не всё уж так хорошо», — скажу я
«Вряд ли может быть долго хорошо, иначе это уже повседневность», — отвечает кто-то мне из-за угла.
Что ж, невидимые собеседники, почему бы и не поговорить, слишком долго мы отдельно друг от друга.
«Достали меня уже эти мухи, постоянно ползают по мне, только и успевай убивать их. И ведь мучает совесть потом за этих жужжащих в уши тварей».
— Я постоянно хочу напиться. Прихожу с работы – и думаю: пора бы и выпить. Но при этом я один. Я один и одинок, и прекрасно понимаю, что если выпью, то уж точно буду выть волком, ибо плохо быть одному.
— А мне как-то сказали, что я свободолюбивый на самом деле. И это при моей яркой рабской личности. Мне сказали тогда, что мои раболепские замашки – всего лишь моя заморочка, в которой я не нуждаюсь. И было в этих словах что-то такое, что коснулось чего-то очень сокровенного в моем сознании. Я думаю, это был момент, когда Правда достучалась до меня. Читать дальше »


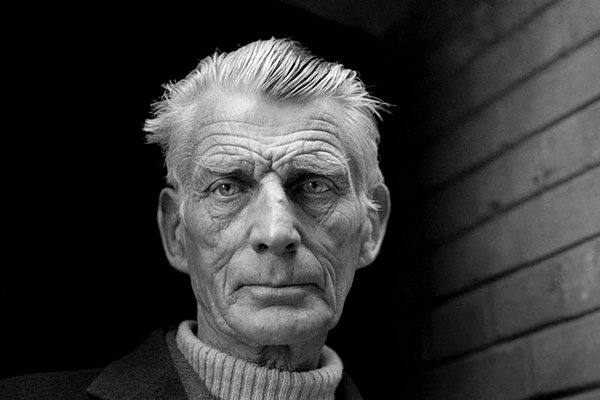

 Айн Рэнд (1905-1982) – американская писательница родом из России, автор интеллектуального бестселлера, романа «Атлант расправил плечи». Рэнд прославилась не только как писатель, но и как философ, создатель философии . В издательстве «АСТ» выходит сейчас (впервые на русском языке) книга Айн Рэнд «Искусство беллетристики». Это курс лекций об искусстве писать художественную литературу, которые Айн Рэнд прочитала в своей гостиной в 1958 году. Слушателями Айн Рэнд были как молодые писатели, желавшие познать тайны ремесла, так и читатели, которые хотели проникнуть в «писательскую кухню». Книга, составленная из этих лекций, собственно, будет интересна как раз этим двум категориям читателей. Речь в книге идет о природе вдохновения, о роли воображения, о том, как вырабатывается авторский стиль, как появляется художественное произведение. Издательство «АСТ» предоставило Переменам возможность опубликовать фрагмент этой книги – ее первую главу, которая называется «Процесс письма и подсознание». Стоит заметить, что излагаемые писательницей принципы жестко увязаны с ее философией объективизма. А так, конечно, стоит иметь в виду, что
Айн Рэнд (1905-1982) – американская писательница родом из России, автор интеллектуального бестселлера, романа «Атлант расправил плечи». Рэнд прославилась не только как писатель, но и как философ, создатель философии . В издательстве «АСТ» выходит сейчас (впервые на русском языке) книга Айн Рэнд «Искусство беллетристики». Это курс лекций об искусстве писать художественную литературу, которые Айн Рэнд прочитала в своей гостиной в 1958 году. Слушателями Айн Рэнд были как молодые писатели, желавшие познать тайны ремесла, так и читатели, которые хотели проникнуть в «писательскую кухню». Книга, составленная из этих лекций, собственно, будет интересна как раз этим двум категориям читателей. Речь в книге идет о природе вдохновения, о роли воображения, о том, как вырабатывается авторский стиль, как появляется художественное произведение. Издательство «АСТ» предоставило Переменам возможность опубликовать фрагмент этой книги – ее первую главу, которая называется «Процесс письма и подсознание». Стоит заметить, что излагаемые писательницей принципы жестко увязаны с ее философией объективизма. А так, конечно, стоит иметь в виду, что 

 Автор: Эдит Подховник, преподаватель русского языка в Грацком университете прикладных наук (Австрия), доцент кафедр международного менеджмента, журналистики и PR, доктор диалектологии (диалекты английского языка). Публикации в европейских научных изданиях. В России публикуется в журнале «Контрабанда» с обзорами культурной жизни в Австрии и статьями по межкультурной коммуникации.
Автор: Эдит Подховник, преподаватель русского языка в Грацком университете прикладных наук (Австрия), доцент кафедр международного менеджмента, журналистики и PR, доктор диалектологии (диалекты английского языка). Публикации в европейских научных изданиях. В России публикуется в журнале «Контрабанда» с обзорами культурной жизни в Австрии и статьями по межкультурной коммуникации.







