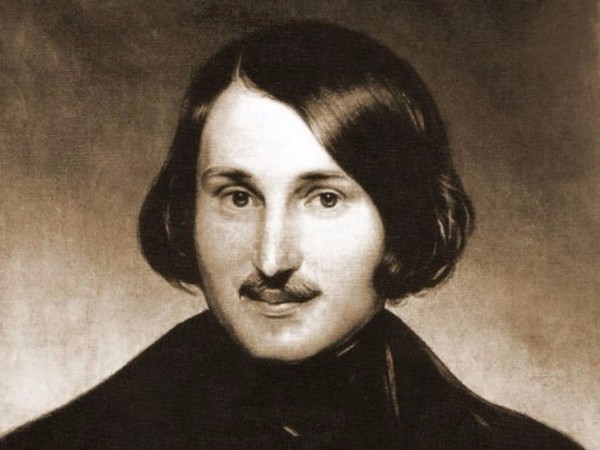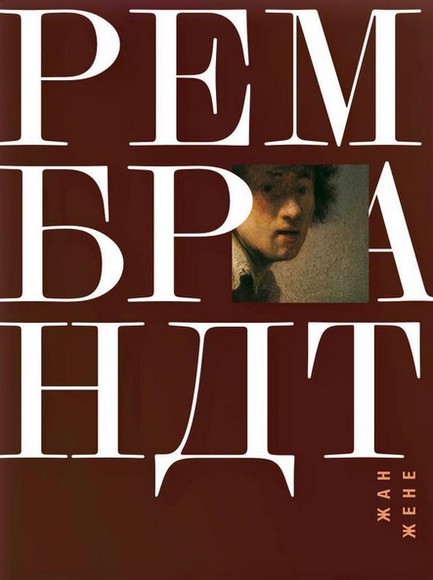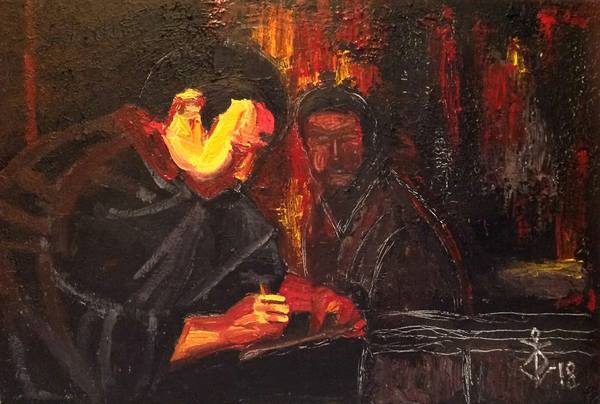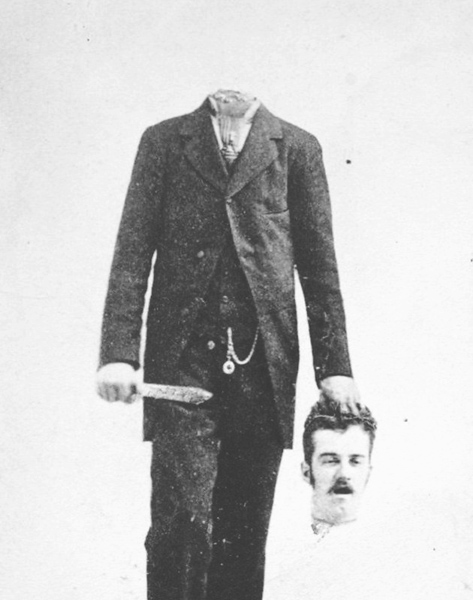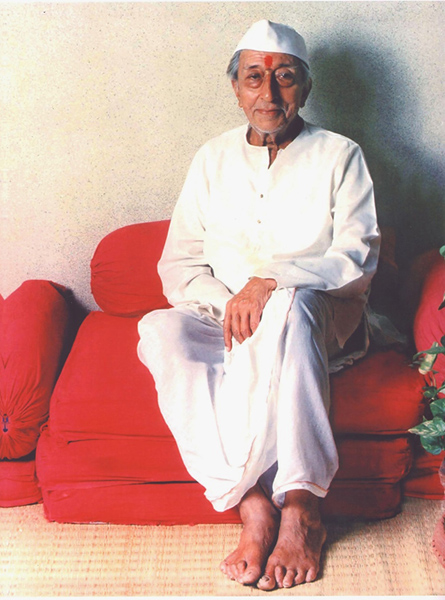Литература никому
25 марта, 2019
АВТОР: Александр Чанцев
Борис Хазанов. Оправдание литературы: Этюды о писателях. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2018. 240 с.
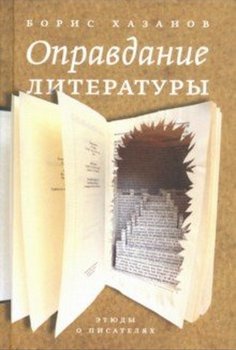
Иногда кажется, что эссе — самое значимое, а статьи о литературе читать интереснее, чем саму литературу (те же классики же читаны и перечитаны). Эссе высочайшей интеллектуальной и, извините, моральной, сужденческой пробы — тут действительно на вес уж не знаю чего. И они, книги таких эссе, проходят почти незамеченными…
Живущий в Германии прозаик и эссеист Борис Хазанов пишет о любимом, о том, о чем, кажется, не мог не написать. В довольно традиционном стиле, без каких-либо сугубых изысков — краткий очерк биографии писателя, скорее даже тех вещей, которые понадобятся для дальнейшего разговора, и сам рассказ, о сквозной ли линии, монотеме или вообще об отдельном эпизоде.
Это разговор тихий и — крайне интеллигентный. Как, если представить себе, на кухне ораторствует Быков, его слушают в проходах, спорят, кто-то уже и морду бить лезет, а негромко в углу, на архаически правильном русском, с интонированием иных лет очень пожилой писатель рассказывает о Флобере и Достоевском, Музиле и Шульце, Хайдеггере и Целане. Читать дальше »