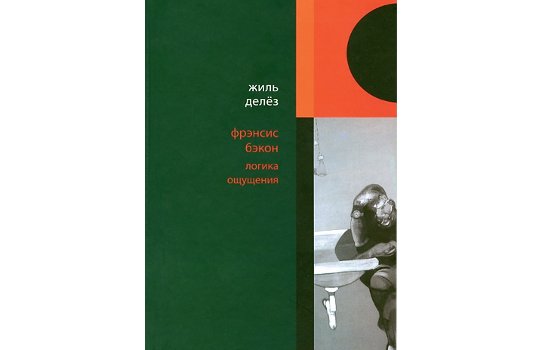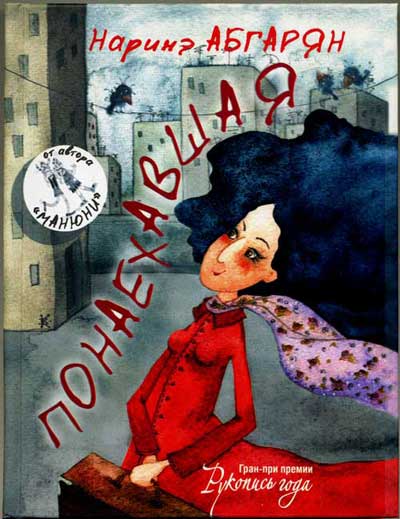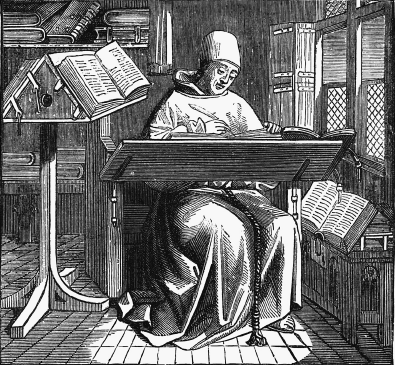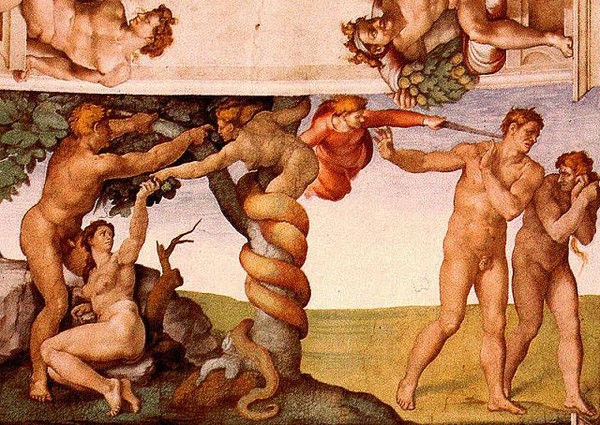У пропасти. Игорь Панин не верит в будущее России и русской литературы
26 июня, 2012
АВТОР: Елена Семенова

Панин человек резкий. Но насколько он резок и непредсказуем, настолько же и интересен. С ним можно не соглашаться по многим вопросам, но надо отдать ему должное – свою позицию он всегда излагает внятно и убедительно.
Досье:
Игорь Викторович Панин родился в 1972 году в Тольятти, детство провел в Воронежской области. В 1979 году переехал с семьей в Грузию, в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет, факультет филологии. С 1998 года проживает в Москве. Поэт, критик, публицист, в настоящий момент работает в «Литературной газете». Автор нескольких сборников стихов, публиковался в журналах «Континент», «Дети Ра», «День и Ночь», «Крещатик», «Нева», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Зинзивер» и др.
Игорь, год назад у тебя вышел сборник стихов «Мертвая вода», отмеченный самыми разными изданиями – от «Знамени» до «Новой газеты». О книге восторженно отзывались известные писатели, например, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов… Тем не менее, никаких премий ты не за нее не получил. Чем это можно объяснить?
Однажды мы сидели с моим издателем Евгением Степановым за рюмкой чая, и я ему сказал, что за десять лет членства в СП России не был удостоен даже самого скромного дипломчика, в то время как рядовые графоманы получают там награду за наградой. На что Степанов заметил: «Отсутствие диплома – это и есть твой главный диплом». Вот так и с премиями. Хорошо, что эта книжка нашла своего читателя и мало кого из рецензентов оставила равнодушным; меня ведь не только хвалили за нее, но и поругивали. А рецензий действительно было много, что удивительно. Не каждый стихотворный сборник получает в наши дни такую обширную прессу. Тем более что никто его не продвигал, специально не пиарил. Единственная премия, отметившая сборник, – это «Нонконформизм-2011». Я вышел в финал, но призовые места получили другие. Ну и потом, чтобы претендовать на премии – нужно на них выдвигаться. Есть такой анекдот, когда человек жалуется, что не может выиграть в лотерею, а ему говорят: «Ты сперва хоть билетик купи». А я существо ленивое, мне неохота готовить документы, куда-то их подавать, хлопотать…
Значит, премии тебя не волнуют?
Абсолютно. У нас в стране вообще процветает премиальный бизнес, о чем я . Появилось столько наград, что и не сосчитать. Но большинство из них не являются литературными и служат в основном для удовлетворения тщеславия лиц, считающих себя поэтами. Массу дипломов и медалей можно запросто купить. Соответственно и премии покупают. И по знакомству получают, и за выслугу лет, и деньги делят с членами жюри. Все это, конечно, позорно. И если в это дело серьезно влезать, претендуя на какие-то награды, то обязательно замараешься. Не то чтобы я был таким белым и пушистым, но в эти игры играть не хочется.
Твой сборник называется «Мертвая вода». Название интересное, однако стихотворение, давшее название книге, меня не впечатлило. Это нечто отвлеченно-символистское с примесью народных заговоров. Почему именно «Мертвую воду» ты сделал ключевым образом? Читать дальше »