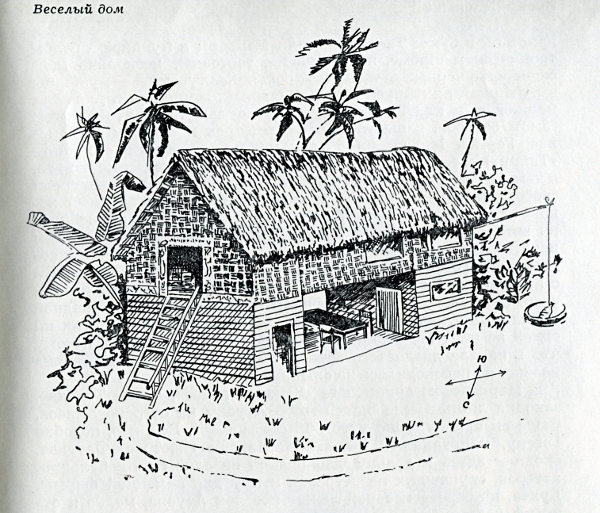ГЛАВА XI. Последнее слово. 7.
Рубрики: ГЛАВА XI. Последнее слово, ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ Когда: November 13th, 2011 Автор: Бенгт Даниелльсон
НАЧАЛО КНИГИ – ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЭТОЙ ГЛАВЫ – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ – ЗДЕСЬ.

В одиннадцать часов благодарный друг Гогена, Тиока, который показал себя куда более преданным и надежным, чем платные слуги, решил опять навестить его. Как полагалось по местному обычаю, он издали дал знать о себе криком «Коке! Коке!», однако не дождался приглашения войти. Тиока нерешительно поднялся по лестнице и увидел, что Гоген лежит на краю кровати, свесив вниз одну ногу. Он подхватил его и побранил за неосмотрительную попытку встать. Ответа не было. Вдруг Тиоку осенило, что его друг, возможно, умер. Чтобы удостовериться, он прибег к испытанному маркизскому способу: сильно укусил Гогена за голову. Тот оставался нем и недвижим. Тогда Тиока пронзительным голосом затянул траурную песнь. На тумбочке возле кровати стоял пустой флакон из-под лаудана. Может быть, Гоген принял чрезмерно большую дозу. Намеренно — говорили одни жители поселка; нечаянно — думали другие. А может быть, флакон давно был пуст. Нам остается только гадать272. Если в этом вообще есть смысл.
Наконец явились два нерадивых лодыря — слуги Гогена. Они не замедлили оповестить всю деревню, и через четверть часа маленькая душная спальня была битком набита любопытными. Потом подошли пастор Вернье (он попытался применить искусственное дыхание) и, всем на удивление, епископ, которого сопровождали два монаха из мужской школы. Впрочем, у епископа была уважительная причина нанести своему павшему врагу последний визит: Гогена крестили в католической церкви, и полагалось схоронить его в освященной земле. По долгу службы явился и Клавери — проследить, чтобы Гоген и после смерти не нарушал правил. Выяснив, что первыми нашли покойного Тиока и Фребо, он тут же заполнил свидетельство о смерти и попросил их расписаться. Неисправимый педант, он приписал следующие слова, в которых звучит явный укор: «Он был женат и был отцом, но имя его жены неизвестно».
Как и в большинстве тропических стран, правила предписывали похоронить покойного в двадцать четыре часа. Однако, к великой досаде Клавери, последний раунд выиграл Гоген: лишь около двух часов следующего дня, с опозданием на три часа, грубый, наскоро сколоченный гроб опустили в могилу, вырытую в красной вулканической почве католического кладбища на холме Хуэакихи, в километре с небольшим к северу от Атуоны. Кроме четырех туземцев, несших гроб, в эту жаркую пору дня один Эмиль Фребо дал себе труд подняться на крутой холм273. Речей не было, эпитафии тоже, если не считать нескольких строк в письме, которое три недели спустя епископ Мартен отправил своему начальству в Париж: «Единственным примечательным событием здесь была скоропостижная кончина недостойного человека по имени Гоген, который был известным художником, но врагом Господа и всего благопристойного»274.
В это же время другой официальный представитель на Маркизских островах, администратор Пикено, жаловался в докладе своему начальству: «Я просил всех кредиторов покойного представить в двух экземплярах свои счета, но уже теперь не сомневаюсь, что долги значительно превысят активы, ибо немногие картины, оставшиеся после покойного, художника декадентской школы, вряд ли найдут покупателей». КОНЕЦ. НАЧАЛО КНИГИ – ЗДЕСЬ.
___________________________
272. В 1951 г., когда я беседовал с епископом Лекадром, он все еще считал, что Гоген покончил с собой. (Даниельссон, М., 1965). Главным сторонником взгляда, что Гоген был убит, выступал искусствовед Шарль Кюнстлер (см. «Журналь дез Арт» № 85, 1934). Два других живучих мифа утверждают, что последняя написанная Гогеном картина представляла собой снежный ландшафт в Бретани и что туземцы Атуоны 8 мая кричали: «Гоген умер, мы пропали!»
Первый миф проистекает из статьи Сегалена в июньском (1904) номере «Меркюр де Франс». Но Сегален не встречался с Гогеном и пробыл в Атуоне слишком мало, чтобы исследовать вопрос. Более того, внимательно читая его статью, видишь, что речь идет всего-навсего о догадке. Вторая, очень трогательная легенда основана на неверном переводе маркизской фразы в письме Вернье Даниелю де Монфреду, написанном в 1904 г. (Ротоншан, 225). Вот причитание в правильном написании: «Уа мате Коке, уа пе те ената» — то есть: «Гоген умер, ему пришел конец». Смысл станет еще более прозаичным, если вспомнить, что основное значение глагола «пе» — гнить, разлагаться.
273. В письме пастора Вернье Даниелю де Монфреду, упомянутом выше, тоже описаны последующие события, включая похороны. Естественно, автор письма резко осуждает католических миссионеров. Неподписанный рассказ епископа Лекадра, помещенный в каталоге Гогеновской выставки 1949 г. в Лувре, хотя тоже резок по тону, но в целом почти не отличается от описания Вернье. Дополнительная информация есть у О’Брайена, 1919, 148; 1920, 228—32, и у Леброннека, 1956, 194. С помощью отца Америго Колза, архивариуса ордена Святого Сердца в Риме, мне удалось установить, что хоронил Гогена недавно прибывший на остров миссионер Викторин Сальтель.
274. Архивы ордена Святого Сердца, 47—48; сведения получены от архивариуса и датированы 24 января 1965 г. Цитированный в последнем абзаце доклад Пикено теперь находится в музее Папеэте.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения