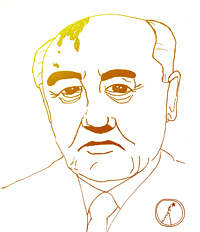ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

Совсем по-ельцински с некоторых пор стал рассуждать наш герой. Не хочет понять того, что «руководящая роль партии» – именно краеугольный камень того государства, в котором мы вместе с ним жили, его – как угодно – конститутивная или конструктивная особенность. Не может понять, что без этой «руководящей роли партии» советское государство разрушается автоматически. Хорошо это или плохо – вопрос другой, но – именно так Советский Союз был устроен. Если замковый камень, каковым была КПСС, вынимают из свода сознательно, чтобы разрушить империю зла, я это понимаю, и даже приветствую, хотя – предпочел бы, чтобы предварительно была создана какая-то другая конструкция, поддерживающая свод. Но если человек вынимает этот камень нечаянно, не зная, что он, собственно, делает, вынимает просто потому, что с комсомольской юности не любил руководить хозяйственными процессами, а любил заниматься «Чисто политической работой», я это, конечно, могу понять, но предпочитаю, чтобы такие люди все-таки чистили сортиры, а не руководили страной.
Но простите, опять я не удержался на позициях беспристрастного исследования, опять во мне проявился занудливый моралист, неискоренимый товарищ Дмитриев. Вернемся в 88-й.
Итак, поведение Ельцина, отделавшегося в сущности очень легко, показало товарищам, что с Горбачевым можно конфликтовать открыто. Ну, то есть, конечно, не совсем открыто, не так, как это делал «нарывающийся» Ельцин, а как-то по-умному. В конце концов, гласность она же не только для тех, кого стали называть демократами. Почему бы не воспользоваться гласностью для того, чтобы с консервативных позиций побороться с ее провозвестником. В общем, 13.03.88 в «Советской России» появился манифест антиперестроечных сил – письмо (скорей – статья) преподавателя химии Нины Андреевой под заголовком «Не могу поступиться принципами».
Сама товарищ Андреева написала этот текст или кто-то ей помог? В тот момент это было неясно. Ныне известно (см. Рудольф Пихоя «Советский Союз: История власти. 1945 – 1991»), что первоначально это было небольшое письмо, пришедшее в ЦК «самотеком» и столь понравившееся Егору Лигачеву, что появилось мнение «рекомендовать» главному редактору «Советской России» товарищу Чикину подготовить расширенное произведение этого автора. В Ленинград был командирован бывалый журналист товарищ Денисов, который и создал совместно с Ниной Александровной уже большую прогаммную статью, которую согласовали с заказчиком и напечатали. Пикантно, что названием статьи стала цитата из одного выступления Горбачева.
Смысл письма: прекратить очернять идеалы социализма, вернуться к его ценностям, таким, например, как классический сталинизм. Все, кому надо, конечно же, знали, что ни с того ни с сего подобные тексты в органе ЦК КПСС не появляются. Многие провинциальные партийные СМИ немедленно перепечатали этот документ, а отважные редакторы боевых органов гласности, мягко говоря, описались. Испуг длился в течение десяти дней. Лишь 23.03.88 в перерыве заседания Всесоюзного съезда колхозников Михаил Сергеевич высказался о статье Нины Андреевой, а формальная отповедь ей появилась в «Правде» 5.04.88.
Почему это так долго тянулось? Болдин говорит, что поначалу генсек принял статью спокойно, сказал о ней в разговоре с глазу на глаз: «Да там вроде все нормально». Более того – в болдинском «Крушении пьедестала» предполагается даже, что публикация Нины Андреевой «имела поддержку в домашнем кругу, где делался самый пристрастный анализ всего, что публиковалось». Явный явный намек на оценку статьи Раисой Максимовной. Небезыинтересно и то, что прямо о роли Лигачева в появлении «Не могу поступиться» Горбачев предпочитает не говорить. Лишь косвенным образом (см. «Жизнь и реформы») припутывает Егора Кузмича к этому делу: якобы, после того, как была закончена работа над ответом на письмо беззаветной сталинистки, Егор Лигачев зашел к генсеку… Наблюдательный Горбачев подчеркивает: «Чувствовал он себя довольно неуютно. Стал говорить, что непричастен к созданию статьи Андреевой, что нужно учинить проверку. Я остановил:
– Успокойся, не надо никаких расследований. Не хватало нам своими руками организовывать раскол в ЦК и Политбюро».
Но все дело в том, что раскол уже существовал. И письмо Нины Андреевой, кто бы его ни инспирировал, было лишь одним из симптомов этого раскола. Он наметился уже на июльском Пленуме ЦК 87 года, а углубился на Февральском 88-го. Наш герой изначально не сомневался: письмо «представляет попытку после февральского Пленума поправить Генерального секретаря, решения Пленума ЦК». Действительно, трудно усомниться в том, что это ответ на прекрасные мысли о «человеческом факторе» и «руководящей роли партии», высказанные в феврале. Но как раз поэтому мы должны четко понимать, что опубликованное в «Советской России» письмо только с виду было письмом некоей Нины Андреевой, а по сути это было письмо товарища Дмитриева. Тут перед нами типичный «Синдром Бобчинского», явившийся закономерной реакцией на «Запущенный процесс». Действовала технология «Чисто политическая работа».
До сих пор истинные коммунисты, забуревшие в своей партийно-хозяйственной рутине, не решались вслух жаловаться на Горбачева. Так, судачили между собой о генсеке, но официально – ни-ни. А тут вдруг эта публикация. Михаил Сергеевич прочитал ее в самолете, на пути в Югославию, куда направлялся с государственным визитом. Шахназаров посоветовал: вам это стоило бы прочесть. Прочитал. Возмутился. Вернувшись в Москву, поднял вопрос о тексте Нины Андреевой на Политбюро: «Эта статья не простая. Она носит деструктивный характер, направлена против перестройки. Неясно, как она появилась в газете» и так далее. Воротников комментирует: «Он все более накалял обстановку, и не всем, в том числе и мне, было ясно, чем вызван такой эмоциональный всплеск. Только ли материалом статьи, как таковым, или обстановкой вокруг статьи, поддержкой ее тезисов кем-то из руководства ЦК».
Действительно, столь преувеличенная реакция генсека на произведение скромного преподавателя химии из Ленинграда кажется несколько странной. В конце концов, если уж гласность, то – гласность для всех. Так почему бы товарищу Дмитриеву в юбке не привлечь внимание к созданию «показательных кружков», то есть всякого рода вредных (с точки зрения нормального партийного консерватора) перестроечных новаций? Ясно, конечно, что Горбачева задело в первую очередь то, что некоторым его коллегам письмо очень даже понравилось. На Политбюро он сказал: «Меня, например, взволновало то, что некоторые товарищи в Политбюро расценили эту статью как эталон, образец современной политической публицистики. Мое несогласие с такой оценкой вызвало кое у кого непонимание».
Ну, так это тоже нормально. Плюрализм мнений. Разве не за это боролся Михаил Сергеевич? Вот, пожалуйста, товарищ Яковлев – у него одно мнение. А у товарища Лигачева – другое. У товарища Громыко – третье. И так далее. Зачем же государственным деятелям такого высокого уровня (всей, так сказать, головке партии, а заодно – и правительства) тратить два дня на обсуждение (одна только краткая запись этого обсуждения составила 75 страниц) статьи какой-то безвестной химички? Чтобы просто «обменяться»? Определиться? Найти зачинщика? Нет, убей Бог, это непонятно. И объяснения Горбачева – мол, почувствовался раскол в руководстве – ничего тоже не проясняют. Он что – до сих пор не знал, что есть несогласные с его линией? Знал. Но даже если не знал, если только сегодня сделал открытие, что кто-то может иметь свой собственный взгляд на процесс перестройки, что же теперь, по этому поводу ночами, что ли, не спать? А Горбачев на спал: «Вернувшись домой, еще долго не мог уснуть, размышлял об итогах этой дискуссии, наиболее примечательных ее эпизодах». Как видно, даже вечерний терапевтический обмен мыслями с Раисой Максимовной в этот раз ему не помог. Что бы это все-таки значило?
Столь неадекватную реакцию генсека на этот консервативный акт гласности можно объяснить только тем, что он воспринял письмо Нины Андреевой именно в рамках технологии «Чисто политическая работа». В ответ на «Запускаемые процессы», наконец-то, поступил классический сигнал «Синдрома Бобчинского». И на него надо было как-то реагировать. Надо! Вопрос только в том, кто и как должен тут реагировать? Это ведь дело не шуточное. Тут включилась выработанная всем опытом жизни установка на деланье карьеры. За «Синдромом Бобчинского» должен последовать вызов к начальству. А где оно, это начальство? Ну, формальную обстановку вынесения вопроса на партком (в данном случае Политбюро) Михаил Сергеевич организовал сам (от товарищей ведь и этого не дождешься). А что дальше? Метать перед ними «Улыбку Иосифа». Можно, конечно, но – все равно бесполезно. Они ведь ничего не могут, а технологический процесс должен быть завершен. И завершен правильно – «Стремительным выдвижением». Что же, и это самому организовывать? В принципе – можно. Знать бы – как. И – куда выдвигаться. Вот, пожалуй, в подобного рода терзаниях и кроется истинный корень политической реформы, которую вскоре начнет Горбачев. Какие карьерные последствия из этого проистекут мы вскоре увидим.
Но, конечно, не только подзабытые за три года генсекства карьерные страсти волновали Михаила Сергеевича в связи с письмом Нины Андреевой. На них накладывался страх перед распустившимися товарищами, который тоже играл свою роль. Горбачев прекрасно помнил, чем кончил Хрущев, понимал, что уже далеко зашел в своих начинаниях, и боялся (пока что – напрасно), что его «Чисто политическая работа» может быть прервана. Потому-то до времени он не хотел накалять обстановку. Потому и сказал пришедшему к нему облегчить душу Лигачеву: «Не хватало нам своими руками организовывать раскол в ЦК и Политбюро». Рассказывая этот случай, он тут же объясняет читателям: «Должен напомнить, что ЦК мог даже отменить конференцию, по уставу это являлось его прерогативой. И если бы кто-то поднял «бунт на корабле», реформаторам не поздоровилось бы, большинство все-таки было не на их стороне. Теперь об этом можно прямо говорить».
То есть Михаил Сергеевич открыто признается, что, прочитав письмо Нины Андреевой и обсудив его с товарищами, почувствовал, что почва под ногами уже не так тверда… И это было неложное чувство. За три года своего правления Горбачев растратил многое из того, что казалось неотъемлемым атрибутом власти в Советском Союзе и действительно было ее важнейшим системообразующим элементом. Горбачев уже не был сакральной фигурой, каковой должен был быть типичный генсек. Иррациональный трепет перед должностью и, как следствие, мистический ужас перед человеком, ее занимающим, столь свойственный убежденным коммунистам (нормальные люди никогда, даже при Сталине, этой мистики не разделяли), исчез, испарился. Генсек стал простым человеком при власти, таким же, как все остальные.
Даже жалкий Черненко еще обладал для товарищей атрибутами некоего полубога, а Горбачев, который, став генсеком, сразу отправился в народ со своей «Чисто политической работой», стал стремительно терять элементы сакральности. Стычка с Ельциным наглядно всем продемонстрировала горбачевское человеческое, слишком человеческое. И вот теперь это письмо Нины Андреевой, отражавшее мнение консервативного крыла руководства партии, окончательно низводило генсека на уровень нормального человека – пусть и не рядового, а очень высокопоставленного, но – нашего брата.
А раз так, раз Горбачев не небожитель, не сакральная фигура, увенчивающая вершину партийной иерархии, значит все людские методы воздействия применимы и к нему. Значит, с ним можно конфликтовать, писать на него доносы, интриговать против него, саботировать его указания, урезать его полномочия – короче: его можно задвинуть. Вещи это все очевидные, но вряд ли Михаил Сергеевич отдавал себе в них отчет. Иначе бы не промотал иррациональный заряд своей сакральной должности столь нерасчетливо и бездарно. А после письма Нины Андреевой он вдруг почувствовал иррациональная власть партийного иерарха утекает меж пальцев.
Вот почему он не мог уснуть после обсуждения злополучного письма. Ничего вроде бы не произошло во время этого обсуждения, все ему в основном почтительно поддакивали, а в конце – уже даже просто клялись в верности, но все равно он почуял, что теряет сакральную власть. Случилось то, к чему он сам вел три года, но – что настало в один момент и поразило, как гром. Он понял, что теперь придется властвовать по-человечески. Что это значит? А вот именно – как-то бороться за власть, укреплять и держать ее. Как бороться? Как укреплять? Как держать? Горбачев знал (да и то интуитивно) только один способ борьбы за власть ее укрепления и удержания – свои карьерные технологии. Как мы уже поняли, они совсем не годились в ситуации, когда человек достигает высшей точки сакрально-партийной власти, они лишь разрушают ее (вспомним «парадокс пророка Ионы»). Но тогда – что же делать? Только одно: изменить свое положение во власти. Именно к этому свелись первые предварительные шаги политической реформы Горбачева. В ходе подготовки к XIX партконференции он вдруг заговорил об объединении должностей первого секретаря (читай – генерального) и председателя президиума Совета.
Вообще-то, конечно, сакрального ресурса могло хватить генсеку еще надолго. Но он начал почти лихорадочную подготовку к политической реформе. И притом даже вспоминает то время почему-то почти что панически, как будто вот-вот его снимут… «Но огромный авторитет, связанный с положением генсека, и крепнущая поддержка в обществе курса на перестройку помогали удерживать контроль над ситуацией. Важно было использовать это, и мы засучив рукава взялись за подготовку конференции, до которой оставалось всего два месяца».
Таким образом партконференция, изначально назначенная как промежуточной подведение итогов и коррекции планов в быстро меняющейся перестроечной ситуации, теперь мыслилась как прямое обращение к общественным силам, поддерживающим перестройку. Понятно, что это уже вовсе не деяние сакрального властителя, это действие человека, пытающегося опереться на что-то земное, обыденное. Если угодно, можно назвать это демократизмом. Но вообще-то нормальный карьерист тоже опирается в основном не на Господа Бога… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века