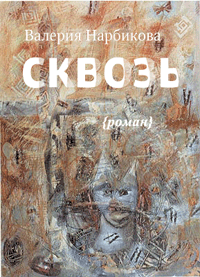НАЧАЛО РОМАНА – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА – ЗДЕСЬ.
Шла лыжница, она метко попадала палками в проколы на снегу, оставленные кем-то раньше, рядом с ней в маленьких черных ботинках не культяпал по сугробу, а скользил с легкостью водяного жука Сергей Маковский. Он был глазастый, как буква Ё, и все время улыбался и о чем-то говорил лыжнице, но только когда они приблизились, можно было разобрать: “Тонкая полоска, облачный пунктир, два-три ярких пятна, узор, блик, мелочь — все сказано, Бердслей не порнограф. Он гораздо больше… Даже самые непристойные из его рисунков, я видел целую серию у венского коллекционера Верндорфера, не производят впечатления соблазнительности в том пошлом смысле, какое приобретает это слово на языке пошлых людей. Бердслей слишком изысканный мастер и слишком безумный художник, чтобы быть опасным для добрых нравов. Соблазны его порочности доступны очень немногим”. Потом он начал говорить о масках, но вдруг потекла река грязная, как монголка, и Маковский с лыжницей остались на одном берегу, а Кровь на другом, и Кровь крикнул через реку:
“Сергей Маковский, вы уже уходите!” — и ему показалось, что он услышал в ответ: тут были маски из зеленого бархата, придавшие лицу такой вид, как будто на нем три слоя пудры”, и Кровь заплакал, но почувствовал, как кто-то холодными руками закрыл ему глаза, это была Лера, она ничего не говорила, а только улыбалась, и он поцеловал ее руки.
— Пойдемте, — сказал, — пойдемте со мной. — После смерти, сам не зная почему, стал обращаться к ней на Вы.
Недалеко отсюда нашли гостиницу, и в названии ее была одна орфографическая ошибка, которая почему-то очаровала. Поднялись на второй этаж, Лера зашла в ванную, капельку поморосила и вышла, завернувшись в простыню… и уже после лужицы на ее животе, и после того, как он, водя кончиком, нарисовал себя, они лежали чуть-чуть трогая друг друга, и она тихо и немножко фальшиво пела, а за окном еще тише шел снег-ребенок.
Потом в его пальцы попал сосок, как ударный слог из самого нежного слова “персидский”, оказавшийся скоро уголком его собственной рубашки, которая немного порвалась о сук вяза, поменявшего за это время направление с северного на восточный.
Кровь сел поудобнее, облокотился о ствол, и уже через несколько минут услышал карликовый голос:
— А ты носил в детстве такой противный белый лифчик, застегивающийся впереди на пуговицы?
— С резинками и чулками? Конечно, носил.
— Как я тебя за это люблю!
— Ну, почему именно за это?
— Не знаю. И резинки были видны из-под коротких штанишек?
— Увы.
— А штанишки держались на лямках, перекрещивающихся сзади! Я тебя за это еще больше люблю.
У самого берега на бревне сидели Лера и Квадрат. На нем была шуба с карими рукавами, на ней серая шкурка. А перед ними в реке плескалась НеЛаира и смертный брат.
— Смотри, — сказала Лера, — им не холодно, они купаются, когда хотят, им все равно лето или зима.
— Они ведь неживые…
— Мы тоже неживые, а мне холодно.
— Садись ближе ко мне, я тебя согрею.
— Нет, ты холодный.
— Ты меня больше не любишь?
— Очень люблю, но ты холодный.
— Лера, посмотри на меня.
— Что?
— Ты меня все время там обманывала? Она пожимает плечами.
— Скажи, — Квадрат повернул ее к себе.
— Зачем ты делаешь мне больно, хотя я забыла, здесь не существует боли, можно бесконечно составлять из ссадин и синяков адские композиции Кандинского.
— Прости, я не хотел.
— Я помню, как однажды Кровь пришел в библиотеку, в которой я работала. Он сидел в зале и ждал, пока я принесу книги, и когда я показалась со стопкой в руках, он вскочил и обнял меня за ноги.
— Я поцеловал Вас в чулок, — сказал Кровь. Он стоял сзади и держал над головой зонт. Если Вам неприятно меня видеть, я уйду.
— Нет, останьтесь.
— А где Человек-Час?
— Он ломает Ваш дом, — ответила улыбнувшись.
— Мой дом! Вы шутите? — Кровь дернулся, и тут, открыв глаза, увидел, что лежит на земле, а сбросивший его вяз удирает, запутывая следы, словно моль. Кровь потер ногу, оседлал какое-то подвернувшееся дерево и расположился в дупле, темном, как крепкий чай.
За рекой была стена, и на стене висели часы, они показывали местное время. Сквозь прозрачную воду было видно речное дно, выстланное крашенными досками.
Плавали пустые лодки. Стояли неподвижные рояли домов. Поднимались в воздух самые летучие буквы Ффф, Ххх.
Она спрятала под шубу Квадрата руки.
— Возьми его, — попросил Квадрат.
Она взяла его в ладонь и сказала: “Какой он мягкий у тебя, как мой животик”. В небе стало грустно.
Она: на самом дне комнаты… компота мы изображали в лицах рассказ Эдгара По. Мою белокурку я никогда не видела раньше, но в той комнате ее звали Люнель. У нее была очень густая шерсть на попке, а лобок бритый. Когда она легла на меня, я ее спросила тихо: это правда, что ты хочешь изображать мужчину? Вместо ответа она напрягла все силы и стала немножко тяжелее. “У тебя ничего не получится”, — сказала я ей. И вдруг она страшно вскрикнула, потому что ее пипонька мгновенно вывернувшись, выстрелила в меня шариком-колбаской. От этого выстрела я почувствовала ор.
— Мне больно и очень приятно, — сказала я ей.
— И мне также.
Квадрат: Хороший рассказ.
Лера: Пойдем к тебе.
Квадрат: Слышишь, в реке скрипят доски, как будто по дну кто-то ходит.
Лера: Я не прислушиваюсь. Не хочу слышать, до сих пор не могу привыкнуть. Отряхни меня сзади. Там ничего нет?
Квадрат: Пойдем.
Лера: Стой! — бабочка перебежала дорогу, как кошка, видел, где т-ты! где т-ы-ы! (остальное проглотила Ы).
Из дупла Кровь увидел дома, взятые в плен кольцевой дорогой. И автобусную остановку, на которой гадали люди. И вдруг услышал явно: “Где ты-ы-ы”, — надрывающаяся “Ы” его проглотила.
— Слава богу, ты здесь, — сказала она, возникая и обнимая ладони Квадрата, — пойдем же скорей.
В его доме над самой постелью висел самодельный абажур, сшитый из поношенной комбинации с гадкими кружевами и даже с одним желтым пятном на них.
— Сюда, — позвала, — скорей, сейчас же — сперма брызнула пунктиром: она проскакала через весь живот, как плоский камушек, брошенный по воде — та-та-та, и ушла на дно в волосы. От Лериного смеха Кровь проснулся.
Кольцевая дорога, плен, автобус, из дупла он вылез заспанный и злой. Посмела так безобразно усыпить его перед самым утром. “Где ты-ы!” — пердразнил он. “Ы” оскалилась. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века