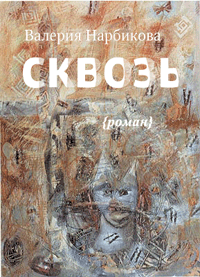НАЧАЛО РОМАНА – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ – ЗДЕСЬ.

Старинная китайская сказка
В далёком жёлто-голубом Китае, жёлтом, как песок, и голубом, как небо, случилась однажды в магазине одна история. Хозяин магазина, бывший лимитчик, а к тому же он ещё сидел в тюрьме пятнадцать суток за хулиганство, а в школе его выгнали из комсомола, он был матерщинником и второгодником. И вот этот хозяин магазина купил лягушку, зелёную, как лягушку. А сам он был хитрый, как змея. А у него жила змея, мудрая, как хозяин магазина. У хозяина была молодая жена, прекрасная, как пятнадцать лет. И однажды змея проглотила лягушку. А потом так больно укусила жену хозяина, так ядовито, что та умерла прямо на месте. И хозяин прямо на месте зарубил змею. А внутри змеи была лягушка, разрубленная пополам вместе со змеей. А внутри лягушки был камень, прекрасный, как бриллиант. А это и был бриллиант на самом деле. И хозяин задумался. Он думал и думал о смерти: лягушки, змеи и жены. И он пошёл в соседнюю лавку к одному скупщику драгоценностей и продал ему камень. И на вырученные деньги он устроил бриллиантовые похороны жены, печальные, как пятнадцать лет. А после этого он внезапно разбогател. Откуда, спрашивается, пришло к нему богатство?
Один из деловых людей погладил птицу и завернул что-то в тряпочку, что было под птицей. А что это было? Это был бизнес. А деловой человек был бизнесменом. И только после того как деловая операция была закончена, клетку с птичкой накрыли покрывалом. Ей, птичке, нужен покой, ресторан, берег моря, девочки и танцы. У неё через неделю – трудная неделя, спи, моя радость, усни.
Автомобиль господина Ив был с помятым крылом. Вчера помял. Металл, как помятая бумажка. Дождь.
На церемонии дождя, которая иногда начинается с утра, как служба в храме. Резкий дождь. Внезапный. И казалось, что эта часть автомобиля может размокнуть под дождём. Железное небо. Даже стальное. Без единой тучи. Не может быть, чтобы дождь был сделан из воды. Он – из металла. И эти острые летящие спицы могут проткнуть насквозь. А изнутри автомобиля, через стекло было видно, что этот железный дождь сделан из воды.
Что такое глаза? Из чего они сделаны?
из – соринки в глазу,
из – солнца – бьёт в глаза,
из тьмы – хоть глаз выколи,
из – я вижу собственными главами.
Поехали. Движение. Стёртый пейзаж. Даже протёртый до дырки в этом пейзаже. И вот сквозь эту дырку – от резкого тормоза не раздавить белку – дыру, единственно-настоящую в этом пейзаже, была видна откуда-то взявшаяся между домами дорога, уходящая вверх. Из чего была сделана эта дыра по-настоящему? Из проглядывающего сквозь нее пейзажа?
Нет, не было никакого пейзажа в дыре. Дыра была дырой. В дыре была дыра из себя самой. Но где в дыре была дорога?
Жил-был один человек. Он жил в одном царстве. И жила-была одна девочка. Где жил этот человек? Где было это царство? Где жила-была эта девочка? – ваши стихи – наяву написаны наяву в газете раньше, чем всегда?
Скорее всего этот вопрос обозначал, печатала ли Ксения свои стихи. Она поняла слово “стихи” и ответила; «можно читать”. – Пожалуйста”, – сказал господин Ив.
Ресторан был таким домиком, к которому посетители подъезжали со стороны озера. И маленький лесок, даже без мужиков в лесу. А ветер резкий как ветер. Они поднялись на второй этаж. Ни одного посетителя.
Окна были расположены низко. И только когда они сели за столик, напротив каждого открылся вид из окна. Окно было рядом с Ксенией. Небольшое окно, прямо на уровне её головы. Потом стена. И точно такое же окно на уровне головы господина Ив. И когда она посмотрела в своё окно, это был именно её вид из окна. И Ксения заговорила по-русски именно об этом. Потому что это её поразило. Господин Ив не видел той части озера, которую она видела из своего окна. И той части леса и части неба, и полчасти человека, который удалялся. Он ничего не понимал из того, что она говорила. О великий, могучий, русский язык! Ты ещё более великий и могучий тогда, когда например один человек говорит, и всё так и возвращается к нему самому. Но ведь он не сам с собой говорит. Он говорит для другого человека. Но ты, великий, могучий, русский, не доступен для того, кому он это говорит, он тебя не понимает, язык. Он на тебе, великий, даже не может заказать меню. Он на тебе, могучий, даже не может предложить снять пальто. Он на тебе, русский язык, даже не может дать имя дереву, которое так и растет напротив окна, безымянное. Ты для него, русский язык, ну как не знаю что, просто про это даже нет слов на русском языке, вот ты что для него такое, русский язык.
И пока она говорила, и пока он слушал и не понимал, официант принес аперитив, потому что Ксения кивнула, когда минуту назад господин Ив предложил ей джин-тоник. Он позволил себе взять её руку. Её рука замерла как зверек в его руке. И если сильнее сжать, то этого зверька можно придушить. Но вдруг этот зверек каким-то образом вывернулся и юркнул в сумочку.
– Вот,– сказала Ксения, – хотите посмотреть?
И она показала господину Ив какие-то квадратики из плотного картона, скрепленные металлическими кольцами. Их было, кажется, четыре, этих фигур. И они составляли небольшую гирлянду.
– Что это? – спросил господин Ив.
Она повернула гирлянду в одну сторону, и господин Ив увидел перед собой треугольник. Она повернула гирлянду в другую сторону и он увидел перед собой квадрат. «Как разрезать телефонную будку на сорок семь частей, чтобы каждому, поместившемуся в ней, было не обидно? – интересно», – сказал он. Но в эту минуту его намного больше интересовала не гирлянда, а её рука, так ловко манипулирующая гирляндой. Неожиданно господин Ив встал, ничего не сказав. Он пересёк зал ресторана и исчез за дверью. Куда вела эта дверь? Прошло минут десять. Он не вернулся. И никого не было в зале, даже официанта, Когда Ксения подошла к этой двери, и некоторое время стояла перед ней, не решаясь её открыть. А когда открыла, то увидела небольшую комнату. Пустую. В ней никого не было. «Что за фокусы?» Белые стены и одна большая картина. И тут же господин Ив, появившись у Ксении за спиной, обнял её за плечи, повернул к себе и что было уже настоящим фокусом – поцеловал.
Он поцеловал её в лоб. И потом спал целовать. Он целовал её щёки. Волосы. Он поцеловал её в рот. Он поцеловал её в губы.
Он целовал её в Москву, в пригород Берлина, в Африку, в Средиземное море, в яблоко, в грузовик, в подъезд, в жуткую жару, в штиль, в пушок над губой. И одной рукой он поймал обе её руки у неё за спиной. И он удерживал их, чтобы она не мешала ему целовать её в подбородок. В прилипшую к губе прядь волос. В Санкт-Петербург, о котором он читал у Достоевского в переводах, в мочку уха, целиком в Азию, в пустоту над головой, когда ей удавалось отклонить голову, в русский шёпот, в котором ничего не понимал. И когда Ксения увидела у него на руке, которой он гладил её по щеке, такую маленькую толстенькую стрелочку, приближающуюся к пяти часам, она всплеснула руками и опять заговорила по-русски. Из всего сказанного, господин Ив понял только одну фразу, да и то сказанную ею по-английски:
– Я опаздываю.
О, возвращение домой. Домой. В свою немецкую квартирку, частичку родины. Там, как в рыбной икринке, навсегда заложена программа рыбы.
И сколько бы не было таких икринок, таких квартирок по всему миру, родина – рыба. В этой икринке – квартирке, есть всё, что есть на родине, даже полутороспальная кровать, рассчитанная не на одного, не на двух, а на полтора человека, и у одного из полтора есть всё, что есть у человека – он симметричен, а у второго из полтора есть только створки неправильной формы и неравной величины, одна больше и толще, а другая является как бы крышечкой при ней.
Она опоздала на час. Александр Сергеевич вошёл в дом и не нашёл дома свою жену. От этого можно умереть в пустыне от жажды, дать пуделю по морде. А можно лечь и смотреть в потолок после того как Серёжа, встретив его, опустил глаза, а Александр Сергеевич лживо сказал ему: «пойду отдохну»… Дойдет или не дойдёт та чёрная точка на потолке до трещины в углу. И терзать себя: «почему?». И даже Мейстер Экхарт что-то не успокаивает, а какой он молодец, как сладко читать его в дождь после е…, и как сладко он говорит, что вот есть бог и есть творение; и человек, он подальше от бога и поближе к творению. А вот если бы он, человек, забыл себя, говорит Экхарт, родившийся в 1260 году, а умер он, когда ему было всего 67 лет, то есть если человек откажется от самого себя, то тем больше он Бог, и тем меньше он творение. Александр Сергеевич любил свою жену Кису больше бога, и если бы его спросил убийца, который может убить даже бога, кого убить? бога или Кису? Он бы сказал ему – ради бога, только не Кису.
Он спрашивал себя:
«почему её нет?»
«почему, когда он есть, её нет?»
«почему он должен жить без ребра? а это ребро, б…, где-то ходит, где он даже не знает, где. Это рёбрышко, которое он так хочет обнять и вые…, с таким невинным личиком на ребре, он хочет вставить в это ребрышко.
«почему в России грязно, а в Германии чисто?»
«почему он не немец?»
«почему когда они были в Коломенском, в домике Петра, она сказала: “вот это был мужик», – «он был царь», – сказал он, – «ну и царь, но какой мужик!», – «ты бы ему дала?» – «Петру? Конечно». На его столе стояла золотая чарка с давным-давно выпитой им царем, мужиком, водку. «шутка», – сказала она. Но ему было не до шуточек. Не до шуточек. Не до смехуёчков. И когда Пётр входил в комнату, он пригибал голову. Даже когда она вошла в комнату, она пригнула голову. Сколько раз в день он входил, столько и пригибал. А его жена тоже была б…, а может, жёны не виноваты, может у всех мужей сидит внутри это блядское ребро. И оно изначально блядское. И каждый раз они отдают в это блядское ребро на сотворение своей жены. А жена сама по себе невинна. Она не виновата в том, что она сделана из «того блядского ребра».
И через час это рёбрышко вернулось домой. Это Александр Сергеевич её впустил. Серёжа даже не вышел из своей комнаты. У Серёжи ребро было на месте. Оно было при нём. Он его никому не предлагал. Держал при себе.
Киса вернулась с цветком, с зонтом, и очередь, в которой она стояла под дождём за его любимым вином, была такая длинная, как в Москве, она вернулась с поцелуями, и Александр Сергеевич уже верил своему бедному рёбрышку: и про очередь в Калуге, во время горбачёвской антиалкогольной пропаганды, почему в Калуге? если он там никогда не был, просто в Калуге как просто в абсолютной абстракции, где абсолютно ничего нет. И расставив цветы, вино, вещи по своим местам, Александр Сергеевич сказал Кисе одну вещь. Он сказал ей это после того, как пошел в туалет, и как и Серёжа тоже пописал на весь город сверху; на очереди, такси, речь. Теперь они были с Серёжей как братья, когда писали по-братски на город с пятого этажа.
Александр Сергеевич сказал:
– Дело даже не в том, что я тебя не могу обнять, когда я хочу, когда мы в разлуке. Дело даже не в ебле. Ты преступница потому, что ТЫ ЛИШАЕШЬ НАС ОБЩИХ ВОСПОМИНАНИЙ. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века