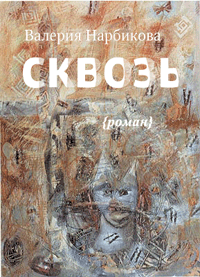НАЧАЛО РОМАНА – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ – ЗДЕСЬ.
А в свободное время она посещала католическое кладбище, ради прогулки. Оно было что-то вроде сквера. Хотя деревьев было больше чем могил. Были могилки и могилы. Были памятники и памятнички. Были надгробия и надгробища. Были склепы. И туда можно было заглянуть в окошко. Заглянув в первый раз через разбитое стекло, Киса испугалась. Кого? Покойника? Некую силу? Потустороннюю? По ту сторону окошка была маленькая комнатка. Сарайчик? То на что может рассчитывать на том свете богатый человек, то есть его труп. Бедный человек, то есть труп его, то есть прах его, будет рассеян по ветру. И в этом сарайчике, в склепе, было мусорно. Грязно. Валялись банки из-под кока-колы, разбитая бутылка, кость, не трупа, куриная, опавшие листья, бумажки, выцветшие газеты. Все, как в сарае. Пели птицы. Может быть соловьи. Это католическое кладбище было чище православного. И холоднее. Ухоженное; травка, белки. Цветы. И никаких лиц покойников, никаких барельефов, никакой любимой Тане от любимой мамы. Ни орденов, ни космонавтов, ни военных, ни лётчиков «на память от экипажа». Оно было даже умнее православного, это католическое. Оно было расчётливей. И в нем был некоторый стык. И сдержанность. И оно было удобным. И в нём не было ни какой тайны. В нём не было разгульной православной вакханалии. В нём не было разгульного вакханального смирения. Оно было ни горячим, ни холодным. Оно было тёплым. Даже тёпленьким. Таким тёпленьким местечком для покойников. И даже покойники казались покойничками. Оно было игрушечным, вот что, это кладбище. Оно было мёртвым. Оно не было живым. А православное кладбище – живое. Со своей глупостью, дебильностью, уродством, гением, страстью, грязью, моветоном, жалкостью, ущербностью, бедностью, нищетой, с дождиком, размывшим дороги. Со своей заботой. Марфа, Марфа! Ты, Марфа, в вечной заботе, Марфа, со своими яйцами вкрутую, куличами, свечками, горшками и консервными банками. С жизнью, скопившейся после живых, с мраморными дурами и бедными крестами, с православными берёзками. Оно живое – с покойниками православными. Оно мертвое – с мертвецами католиками. Хотя оно было удобным. На нем было удобно спать. И чисто. И у кого сколько вытоптано на православной могилке, у кого сколько посетителей, тот на столько и знаменит. За полем – по одну сторону деревни, а по другую кладбище. И там никто не спит. Ни один покойник. Все ходят и говорят между собой. Искалечить, нет, лучше быть убитым, но только не искалеченным. Если бы Анне Карениной отрезали одну ногу, а Вронский за ней всю жизнь бы до смерти ухаживал. Смешно! Если бы Пушкину повредили мозг и он до конца жизни ничего бы не написал, а был простым эпилептиком, а Лермонтов после дуэли лежал бы прикованный к постели, а Байрон не погиб бы после несчастной простуды, сразу в одно мгновенье. Сгорел! А умер бы в шестьдесят лет от туберкулёза, кому это надо? Только мгновенная смерть. Раз – и умер. Раз – два и воскрес, и ты уже там без этой земли, чтобы только её не видеть, чтобы духу тут твоего не было, чтобы ты сразу плавал среди ангелов, как в пене морской среди афродит, как пузырьков, вышедших из пены. Но только вот что непонятно: если вознестись на небеса, да? и если внизу земля, да? и если ты всё время на небесах, она же всё время будет отвлекать, она же будет манить? да? она же заманит, отсосет и высосет всю душу, она же ненасытная в своей страсти к отсосу душ. И вообще ведь душ, воспаривших над землёй, нигде больше нет, они и есть только над землёй, они там обитают, а вдруг… там вообще ничего нет? нет и всё; вот так; как нет снега после того как он растаял в Москве, и его вымели, может, и там все вымели и не вымели только нашу одну, такую маленькую, такую никому ненужную землю, может мы-то думаем, что мы центр вселенной, а может мы и существуем просто по тому, что просто до нас никому никакого дела, может мы и сохранились только потому что больше никому не нужны, только потому что заброшенные, так вот и существуем никем необозреваемые, и никто за нами не наблюдает.
Вот что было странно, что с одним человеком живешь, а другого вспоминаешь, а потом уже с другим кто-то живёт, а другого вспоминает, и так до бесконечности: как будто он никогда вообще не присутствует ни с одним человеком, он только и живет сначала с ним, чтобы потом его вспоминать, а не жить с ним; а почему это? И самое сладостное, самое сладкое воспоминание – это то, что этот человек не позволял. Запрет. Запретный плод сладок? Запрещено. По газонам не ходить. Ходят. Не красть! Крадут. Не прислоняться. Руками не трогать. Не прелюбодействовать. Всё равно ебутся. Не убивать. Не умирать. И вообще лучше не жить. Не курить. А может жизнь – это и есть нарушение. Может это преодоление запрета, может жизнь это и есть то, что нельзя, потому что нельзя жить.
Киса проснулась часов в семь утра. И в эти семь часов она была совершенно одна в постели, в таком раннем мире, которому стукнуло только семь. Которому каждое утро стучит семь тук-тук. И этот мир потягивается, умывается, летит с червячком в клювике, плывёт с мешком икринок под брюхом. Как же он выползает из норок, этот мир, такой ещё тёпленький после сна, разнеженный, а там за окном «объезд», «проход закрыт», «комендантский час». Что еще сказать?
– Серёжа! – позвала Киса.
Тишина. Куда все ушли в такую рань. «Все ушли на фронт». Главное, ей хотелось выпить кофе, не выползая из постели. Чтобы ей принесли, а она бы выпила.
Свет с левой стороны, а скульптура с правой. Что такое скульптура? сочетание чего-то живого на фоне чего-то неживого: часть ноги и ножка стула – скульптура, ствол дерева и асфальт – скульптура, скелет в гробу – ширпотреб.
Время в семь утра уже было однажды уже в семь утра, может в полвосьмого, в Москве. Она звонила из автомата, и монеты всё время проваливались, автомат был полудохлый, а ей надо было дозвониться своему… – проще его будет назвать любимым. И соседний автомат был сломан. Рядом стояла девушка и Киса у неё взяла две копейки (один рубль, сто рублей, деньги – это время так быстро текущее в России). И он её услышал. Разбудила-не разбудила. Конечно, узнал. Но говорить не мог. Перезвонить. И она пошла по улице, наполненной разными штучками: фонарями, скамейками, киосками. И было холодно. И она зашла в магазин, поднялась по лестнице, и там был такой балкончик, и с балкончика она посмотрела вниз, и увидела, что она в раю штучек. Это был писчебумажный отдел, и взгляд падал и разбегался, как самый тишайший, сверкающий миллионами скрепок, склеенный километрами прозрачной ленты, стёртый ластиком, вымазанный клеем, с росчерком паркета, посредине, как самый бесшумнейший, состоящий из все этих штучек – Ниагарский водопад. Он совсем сюда не подходил как сравнение, этот водопад. Но именно он просился как великая штучка – он состоял и падал, изрыгая из себя писчебумажные принадлежности. Киса даже не купила кнопки, чтобы выдавить капельку крови из своего возлюбленного: даже скотч, чтобы потом заклеить ему ранку. Она страшно боялась, это был такой страх, что вдруг его телефон не ответит, что она ещё долго наблюдала водопад.
Все-таки она встала.
Она съела будущего детёныша, варёного две минуты, плохо сваренного, слава богу, что человек размножается не посредством яиц. Яйцо было невкусное. (Желток какой-то нежелтый, а белок голубой, а желток тошнотворно-апельсинового цвета, а белок – желтый. Противное.) Она съела два яйца. То, что запрещено, то и жизнь. То, что нельзя, то и можно. То, что плохо. То и хорошо. То, что нет, то и да. А то, что быть – то быть или не быть.
На кухонном столике стояла роза, имя существительное, стоял глагол, роза – цветок, роза – проза, рифма.
Это была подарочная роза. Это была подаренная роза. На утро, на следующий день она завяла. Но чтобы было приятно, что она всё-таки цела, оставалось только окунуть её головой в тазик. Расправить ей все волосики, растереть пальцами её череп, погладить по затылку. Причесать. Это была безмозглая роза. Она не хотела вставать. Она хотела лежать в тазике. Плавать. Лежать и плавать, как лилия в пруду, или почти как лягушка. Вот удивительно, роман «Война и мир» такой большой. Почему его читают? Кто его читает? его читают девочки и мальчики, девочки отдельно: про любовь, мальчики: отдельно про войну.
А всё вместе читают учителя. Это эпопея. Великая. Хорошая. Каждый там может найти свое. Это и есть хорошее. Хорошее – это то, что хорошо и для мальчиков, и для девочек, и для юношей, и каждый там найдёт своё, а тот кто там ничего не найдёт, в великом, тот даже и не девочка, и не мальчик, и не бабушка, и не ученик, тот просто никто, это не для него.
Зато тот, кто что-нибудь найдёт, он причастится к великому, как частица, он и сам станет частичкой великого. Это он прочитал. Это он оценил. Это его способность оценить. Он – великий читатель. А писатель так, он просто для великого читателя. Он ему служит, великому. Он просто для него пишет, для великого. Он с ним говорит по ночам, когда не говорит по телефону с приятелями, с дамами, с любовниками, скажем, с предметом страсти, а то нас неправильно поймут. Писатель, он, собственно, что это такое? Кому это надо? Как говорит Витя, своего рода гений, кому это надо сидеть и писать? Собственно, в чём заключён этот порыв что-то написать. Уж явно не для того, чтобы это прочитали. В этот момент это безразлично. Как времена года зимой, когда думаешь об утре после четырёх часов в понедельник.
А собственно то произведение великое, которое можно пересказать, рассказать своими словами. Рассказать ученикам. А лучше вообще ничего не писать, а только рассказывать ученикам своими словами. Как ты родился, жил и умер, сколько у тебя было учеников, грехов, кто был твой учитель, чему он тебя научил, чему ты у него научился, чему вы научились друг у друга. Потому что всё это есть таинство ученика и учителя:
учитель ученика учит,
а ученик учится
и записывает,
а учитель говорит,
а ученик пишет,
и учитель говорит,
а ученик пишет,
и у ученика появляется стиль,
это не совсем то, что говорит учитель.
Учитель рюмку пропустил, вздохнул, откашлялся – это стиль.
А потом в туалет – это стиль.
Форточку закроет – это стиль.
К телефону подойдёт – это стиль.
А в это время ученик думает.
Он думает о том, что скажет учителю,
пока тот –
в туалете
на кухне
у телефона –
вернулся – это стиль ученика.
И учитель опять заговорил.
Но в это время ученик ушёл –
в туалет
к девушке
к маме
А потом они встречаются. Ученик с учителем. И то, что говорил учитель, ученик усваивает, а то, что говорил ученик – учитель к этому прислушивается. И таким образом они соответствуют друг другу. Но уже плохо разбираются, кто из них кто. Хотя учитель всегда больше, чем кто. А почему?
Вот вопрос, который не даёт покоя. Почему этот усатый, бородатый, некрасивый, в дурацких штанах, не на машине – учитель? А почему этот красивый с девушкой, почему он ученик? Ну почему он ученик?
или ему нечего спросить?
или ему нечего сказать?
или может его никто не спросил о том, что он хотел сказать.
Сам. Вот. Сам.
Сам – это и есть учитель.
Если не сам, то в очках, в усах, даже при девушке, но все же ученик.
Жил-был один друг. Учитель. И жил он далеко-недалеко за городом. Куда ходили электрички. А обратно почему-то на попутке. То есть все, кто к нему ехали, туда ехали хорошо, нормально, а обратно плохо. Туда – ходили электрички, а обратно – нет. А почему? А потому, что очень долго, подолгу его слушали, и опаздывали все на электричку, но готовы были ехать автостопом. Он жил в халупе. Он снимал нижний этаж с ванной, с телефоном, а верхнего этажа у него и не было, просто в природе не было, а если не было, то он жил в комфорте. С садом, бутербродом.
И вот этот ученик к нему приехал. И он постучал в дверь, а она была не заперта. Он её открыл, она и открылась.
– Кто там? – учитель вышел из своей халупы, из своего зоосада, с белкой подмышкой, он был добрым, – заходите, – сказал учитель.
ученик вошёл «спасибо»
учитель спросонья потёр глаза
учитель – спит
ученик – спимый
учитель – слушает
ученик – слушаемый
учитель сам пойдет в магазин
а ученика – пошлют.
У ученика есть доска, мел, слова, язык.
Учитель может оказать «да», а потом помолчать и сказать «да нет».
У учителя в комнате обстановка – это беспорядок, трусы, папиросы, может быть чай, может, водка, а может быть, роза.
Ученик вошёл. Он ведь очень долго шёл. Он устал. Он долго ехал. Он сел. А учитель говорил, о Толстом, что так сейчас никто не пишет. Что у Толстого тоже были ученики. И следовательно Толстой тоже был учителем. Учитель был нехороший, без розы, ученик красивый с цветами, в окне, ему есть, что сказать.
Но учитель говорит.
Бегает белка, как в уценённом магазине «Меха», в провинциальном. Встаёт солнце, как на картине художника не то что неплохого, но непокупаемого. В общем, оно не производит впечатления, это солнце. Как новое солнце, как солнце, которого ещё не было никогда. У художника солнце было оформленным. И правильно, что его не покупали, не потому что это непокупаемый художник, а потому что у покупателя был вкус. А у художника не было вкуса. Не покупательная и продажная способность соответствовали. Покупатель его не покупал, потому что солнце было н е в ы р а з и т е л ь н ы м. Скорее декоративным. Он так его и писал – для того, чтобы его купили, а его не покупали, из-за того, что он его так писал, чтобы его купили.
Учитель говорил.
Ученик слушал, –
что человек – это скорее растение, это точка отсчёта – это человек и мир, и мир исходил от человека, но человек мало передвигался, то есть он даже не животное, а растение, потому что привязан корнями к одному месту. И все великие завоевания, и все великие полководцы – это скорее животные, потому что хотят порвать, сломать эти корни. И всё представление о мире связано с человеком с корнями, потому что если бы он мгновенно передвигался, для него не было бы:
не было утра, ночи,
не было бы зимы,
завтрака,
ритма дня.
Для него есть день и ночь, потому что он сидяче-стояче-лежачее растение, на нём есть бутоны, цветы, колючки, он пахнет, человек, он плохо ходит, он передвигается. И вот что: если животное абсолютно, его наблюдает человек, если растение абсолютно, его наблюдает человек, и неживые предметы; столы, стулья, скрепки, сумки, то сам он по себе человек, может сравниться только с самим собой.
Это он похож на них своим подобием,
это он напоминает их, а они его нет,
это он бедный, потому что их много, их царство,
а он один,
одинок в своём подобии себе, только самому,
это он может описать их,
а они его – нет.
Лень, некрасивый, непрекрасный, но хорошенький, с такой улыбочкой в небе с дождём в углу окна. Он занимал много места, этот дождь, он заставлял о себе думать. О нём уже было много стихов, о дожде, но сейчас он шёл так, как стихотворение, ещё ненаписанное. И лучше его пересказать, это ненаписанное стихотворение. Так будет короче. Чем его сначала написать, это стихотворение, а потом читать вслух… Стихотворение про дождь, если бы оно было, было бы на самом деле про Елисеевский магазин: что вот если бы у маленького человечка, стоящего в Елисеевском магазине под потолком метров в двадцать, было бы острое зрение, то он бы видел, как по этому роскошному потолку ползают тараканы, и падают сверху вниз как дождь, как крупные и мелкие капли дождя. Это изюм, господа.
Такое бывает только в России, когда дождь, как капли тараканов, а тараканы, как изюм, господа. Любимая, великая, неповторимая Россия, куда же несёшься ты! И что демонстрируешь? Кто на твоих демонстрациях? Даже не комсомолочки двадцатых годов, а полунищие тётки в спущенных чулках, с нарумяненным лицом, с выцветшими лозунгами «за Ленина, за Сталина». И дождь капает и обкапывает их. А они, эти демонстрантки, такие обкапанные; и в этих стихах об этом дожде почти отсутствует поэзия, поэтому их лучше пересказать прозой, господа. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века