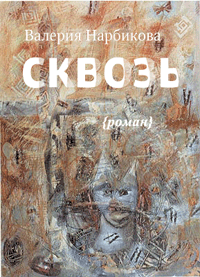НАЧАЛО РОМАНА – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА – ЗДЕСЬ.
Два глаза встретились взглядом: зрачок в зрачок, преодолев кратчайшее, всего в одну переносицу расстояние.
В одном зрачке отразилось лицо, морщинки имели такой рисунок: они повторяли полет мошек и комаришек; в другом — затылок императрицы. Жозефин сидела с прялкой — арфой, играла-пряла.
Вот два веретена пряжи, а в двух коробках ссыпанные с листа ноты, мелкие, как цветочные семена.
В Мальмэзоне у Жозефин есть бук, камелии, живет вместе с карликами и попугаями бородатый орангутанг, но есть и уголок роз, куда она приходит пошептаться, это ее тотемы: Пурпурный плащ, Ляжеч-ка взволнованной нимфы, Церковная люстра, Бенгальская вишня, а среди них Двойной султан, Вакханка, Император и Приятный друг.
Стоит провести кисточкой по окаменевшим в лупонариях: отколоты пальцы, отбиты уши и носы, выщерблена временем-оспой кожа, но целы самые уязвимые места: его рука у нее под грудью, а твердый и без того (причина не во времени, не в материале: гранит или мрамор) ключ поворачивается в ее каменной там-там-там скважине — открыта: “Да, мой Ипполит, вся моя ненависть — к ним. Тебе же одному — моя нежность, моя любовь. Я ненавижу их за то ужасное состояние, в котором нахожусь последние дни. Ипполит, я убью себя, да, я уйду из жизни, которая станет бременем, если не будет тебе посвящена. Что я сделала этим чудовищам?”
Ветер, такой предатель, донес это до другого уголка цветника; стебель Императора согнулся, толстые маленькие колючки навострились. Император обращается к Гектору, к Бенгальской вишне, к Пурпурному плащу: “Вы ко мне совершенно не привязаны. Женщины! Жозефин!.. Если б вы были ко мне привязаны, вы бы сообщили мне все, что я только узнал от Жюно. Вот, истинный друг! Жозефин! Вы должны были мне сказать. Жозефин! Так меня обмануть! Она!”
Это правда, что она любила индийский муслин и собрала целую коллекцию, это правда, что только двое панталончиков обслуживали все собрание платьев, а любимые украшения изготовлялись самыми модными мошенниками-ювелирами: пожалуйста, пожалуйста — ожерелье из укусов, в каждую ранку вправлен поцелуй, подвески, зализанные алмазом, и на прощанье — чмок в ручку.
Но диадема Флоры — подарок Императора; и Приятный Друг здесь не причем. Бедный-бедный Кот в сапогах, он оцеловывал головку, он прикасался к ней с воздушностью кудряшек, но она рычала по Ипполиту. Тот же разбрасывался ее драгоценностями: в Милане подарил мадам Ламберта запястья из красных, как бычьи глаза, засосов; сережки миланезка меняла без конца.
Не верится в то, что подарок от Мюрата, был принят креолкой тем более в постели, тем более в Париже, где она едва успевала перевести дух, благодаря щедростям Приятного Друга, но брошка на лету, за портьерами, да, да, было… Хотя Баррас, первый ювелир, в кругу гостей говорит: “Нет”.
Три султанши Барраса обожали морскую пену, и место каждой было на гребне волны, и поэтому чуть стоило пене спасть на одном гребне, они весело переходили на другой. Морские качели — это раскачивается Тереза: от Фонтене — к Тальену, от Тальена — к Уврару, от Уврара — к Караману. И только Баррас не подставлял им свой гребень, он ждал на берегу, само море прибивало их. И это чистая случайность, что фанты распределились именно так: Нотр-Дам де Термидор — Тальену, прелестная креолка — Бонапарту, мадам Шатороно — маркизу де Майи. Поэтому у себя в цветнике Жозефин фанты-розы пересадит.
Круг гостей был еще уже, чем юбки сестер Долли.
Баррас, как ручного мышонка, поглаживал на щеке свою мушку из черной тафты.
— И женщину нужно уметь разнашивать, как сапога. Пусть сначала жмет, ничего, пусть натирает, ее мягкость не всегда нам быстро дается, — и тихо; чтоб не повредить швы юбки, и чтоб ни-ни! за нее, — вдова Боарне, я бы. сказал, восхитительный галстук с белой подкладкой и синей лицевой стороной — старый и новый режим сочетаются в ней одной. Она для меня бесценная находка.
Потом устроили спектакль. Партнеры Барраса опорожнялись с легкостью наклоненных бутылок. Держали друг друга за барабанные палочки и выбивали ими дробь. Не вышивали взглядами, как это любил Мои Глазки.
Круг гостей был еще уже, чем юбки сестер Долли.
Жозефин, обессилевшая от ласк, Ипполита, лежала, разбросав ноги. Ее шейный мешочек взрагавал, словно у ящерицы, перегревшейся на солнце. “Ипполит! Ты любишь меня? Видеть тебя каждый день и не быть твоей. Я измучилась. Но теперь эти дни наши. Ипполит!”
В замке Момбело, где Жозефин казалось, что родственники ее мужа, как мыши прогрызли все стены, и ей некуда Деться от их глаз’, в Момбело — Ипполит, кажется, был доволен. Все его тщеславие трещало, как перезревший арбуз. Брату: “Приезжай в гости, ебаный лентяй из Маврикия, приезжай взглянуть на республиканцев… Если ты приедешь ко мне, обещаю вернуться с тобой”. Арбуз лопнул, как только Приятный Друг подписался: Капитан-адьютант. Мало: — Шарль обвел свое новое звание жирной чертой.
Вот сюжет полнолуния, он повторяется с точностью худобы месяца, потом полнения и ожирения луны:
— Сколько ж ты это носила в себе! — говорит Черный Квадрат Лере и обнимает ее. — И натекло много крови?
— Да, я быстро побежала в ванную, чтобы смыть… а он приоткрыл дверь и смотрел.
— Почему именно с ним?
— Так…
— Но а как же у нас еще раньше: лед, собака? Ведь тогда все было!
— Не до конца… просто растянули.
— А помнишь, как ты разделась и в свою рубашку-юбку нарядила елку. Я подошел, не коснулся ни тебя, ни елки, а все у меня произошло.
И свет полнолуния повторился с точностью, худобы месяца, потом полнения и ожирения луны: спустя пять недель после замужества, Жозефин отдалась Ипполиту. Сославшись на беременность, отказалась ехать с Мюратом в действующую армию к мужу. На улице Шантерен каждый день ее ожидал Приятный Друг: у него был поднят вверх указательный палец и такой же твердый и настороженный, как указательный, — палец мужской.
“Так меня обмануть! Женщины… Жозефин! — слова стаптывались. — Развод! Я истреблю эту породу блондинчиков. Что касается ее — развод. Да, развод публичный, шумный!” — Но потом уже, когда она была рядом с ним и плакала, он только клялся — вбивая новые и новые слова, чтоб те никогда не стоптались, и едва-едва успевал нанизывать крупные чудесные слезы Жозефин.
Не было и не могло быть одной-единственной улики — капельки крови.
Когда Лера говорит Черному Квадрату: “У тебя же тоже было!” — он ломается и повисает на Лере, как часы Дали.
Потому что на его белых трусиках Лера видела маленькую капельку крови, не свою, а другой женщины.
Когда же Лера разгибает Квадрата, время опять идет, и она гладит его по голубой складке, которая образовалась, пока он висел, и спрашивает:
— Это у тебя было впервые?
— Нет, но впервые не опасно, — Квадрат мнет, затирает до дырок углы, но потом сворачивается конвертом, и Лера вся помещается в нем, и он носит ее по дому, укачивая.
Танцевавшие дамы походили на бабочек, насосавшихся ядовитого нектара. Их партнеры, не рафинированные — на сахар, вымоченный в чае.
Все общество составляли юные девушки на выданьи, породистые вдовы, желающие вновь выйти замуж и молодые люди из сословия овощей, только что взошедшего на кормах Директории.
На дамах были платья тонкие, как целочки, были невесты с приклеенными ресницами, были с губами подкрашенными менструальной кровью. Туника одной девушки была настолько прозрачной, что многие мужчины сошлись во мнении: “Ее мысок действительно напоминает молодой початок кукурузы”.
Сюсюкали, залпом проглотив все согласные алфавита, из которых можно приготовить жаркое. Говорили во вкусе желе: “До’огусенька! П’афта, он мн’. Хотю его!”
Один из овощей рисовал на клочке бумаги и попутно объяснял зрителям только что пришедшую ему в голову фантасмагорию: “Это любой из желающих сажает на упругий, как прут, всех невест сегодняшнего бала. Прут пронизывает их насквозь — выходя через рот. Они помещаются на нем все. Они иссыхают и, как вы видите, напоминают сушеные грибы, другие сочатся. А вот и фонтан, утоляющий жажду всем сразу”.
Дамы хохотали. Кто-то полюбопытствовал:
— Почему только прут, как вы выразились, такой тонкий?
— Это из-за его необъятных размеров… и еще, чтоб не разодрать желудочки дамам.
Рисунок прикрепили между двух копий с греческих барельефов Скопаса.
На одном нереида, изогнувшись обнимала козла, в уши которого продеты полукруглые серги-рога.
На другом — Леда впускала в себя лебедя. Тот, разбросав крылья, заглядывал в тайники через ее плечо. Его мраморные перья походили на чешую гигантской рыбы.
Танец “Леда” был их любимым.
НеФебея повязывала на шею косынку из мягких перьев куропатки, на бедра — поясок. Вот и весь ее костюм. Так она танцевала Афродиту, превратившуюся в орла.
НеЛаира — в костюме Леды держала ляжечками золотистый пучок остро пахнущих кудрявых стружек.
Смертный брат танцевал Тиндара, смачивал губкой ступни ног. Его шаги вдоль стены напоминали птичьи треугольники.
И бессмертный брат танцевал лебедя.
НеФебея-орел вонзалась когтями в спину голого Зевса. Расцарапанный он падал, взлетал. Забросал Леду взглядами — хрупкими яичными скорлупками. И тогда она раздвинула ляжечки — золотистый пучок не выпал, но поделился на два розовым скользким пробором. По этому пробору Лебедь водил огромным некостяным клювом, вдыхая запах единственной ноздрей. Потом Леда брала клюв в рот, и не обращая внимания на Тиндара, всасывала семя, которое в нее отрыгивал Лебедь.
Вторая часть танца посвящалась возвращению Зевса к Афродите, которая уже успела скинуть костюм орла и белым, вычищенным до одного волоска холмиком встречала победителя.
И последняя часть — allegro: Тиндар острыми, резкими движениями атакует жену, Она подчиняется ему, и они весело, по-птичьи укалывают друг друга. Последний укол и Тиндар уносит ее на себе.
Сломала сухую академическую линию, который обвел ее ученик Давида, и во вкусе Греза сжала пальчиками маленькую грудь, словно желая выдавить из нее сосок.
Кроме красных шелковых перчаток на ней не было ничего. В ее кулаке он двигался с виртуозностью внутренностей червя. Перчатка взмокла. Клятва Горациев была забыта ради садов Армиды. Раздавлен. Внутренности на шелке.
Размазала их по груди и животу.
Он собрал ее в букет и выкинул на улицу.
Экипаж, двигаясь ровно, как станок, вернул невесту на бал.
В Мальмезоне подошла к Императору, села на корточки и стала щекотать прутиком лиловые, круглые, как глаза нежащейся лягушки, росинки.
“Я не провел и дня без любви к тебе, я не провел и ночи, не обнимая тебя. Когда я окружен делами, нахожусь во главе войск, прохожу по лагерю, только моя обожаемая Жозефин занимает мой ум. Если я удаляюсь от тебя со скоростью потока Роны, то лишь для того,
чтобы скорее обрести тебя. И тем не менее ты жалуешь меня “Вы”. Сама ты “Вы”! Гадкая, как ты осмелилась! Да, это “Вы” побуждает сожалеть о моем старом спокойствии. Горе тому, кто является причиной! Да испытает он в наказание и как пытку то, что испытал я. В аду нет мучений! Нет ни фурий, ни змей! Но “Вы”, “Вы”!
— Ах-х! — она слегка ударила прутиком, слезник лопнул, в обе ладони Жозефин покатились капли.
“Прощай, женщина, мука, радость, надежда и душа моей жизни, кого я люблю, кого я боюсь, кто внушает мне нежные чувства, приближающие к природе и бурные движения, вулканические, как гром. Не прошу у тебя ни вечной любви, ни верности, но только… правды, безграничной откровенности. День, когда ты произнесешь: я люблю тебя меньше, станет последним днем моей любви или последним днем моей жизни. Жозефин! Вспомни, что я порой говорил тебе: природа создала меня сильным и решительным, тебя же она сделала из кружев и газа. Прощай…”
Газовое платье все-все промокло. Совсем в другом уголке сада — Приятный Друг. Острыми шипами, не как цветок, а терновник, он уцепился за платье своей покровительницы. Ему всегда что-то нужно: чтоб окопали землю вокруг, пригласили пчел, полили. Но не надо так больно цепляться, она сама наклонится и потрется губами о торчащие тычинки.
“Я не потеряла времени, так как уже через час написала к консулу и министру юстиции. Я тем острее переживаю неудачу, что мои чувства к Вам прежние, что меня не заставят перемениться, что я Вас люблю с нежностью и постоянством”.
Слизнула пыльцу и ушла.
Овальная спальня, две лошадки и его дешевенькая комната в отеле Шербург, вся завоеванная Италия и Египет поместились в картонной коробке для игрушек. Все спуталось: Италия посыпана конфетти, а в его меблированной комнате на полу густо-густо лежат елочные иголки. Немного потемнели зеркальные стены спальной, но Египет все тот же. И только не помещаются в коробке и торчат из нее огромные рога.
— Я думаю, что она заставляла носить их?
— Так говорят, сир. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века