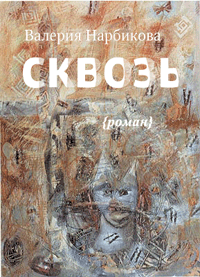НАЧАЛО РОМАНА – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА – ЗДЕСЬ.
Прятки — щупальцы!
Луна налилась, как брюшко комара, напившегося крови.
Огурцы покрылись мурашками.
Кузнечики боялись отбить о камни ноги и прыгали невысоко.
Из окон второго этажа недостроенного дома доносилось пение лягушки.
Море блестело, как открытая мидия.
Раскачивались пальмы, ощетинившись ежами.
Посчитались: первым водит Человек-Час. Лера и Кровь прячутся. Он водил в доме -4, они же не соблюдали правил и прятались совсем на другой улице, и он не мог их найти.
С Лериного тела еще не сошел загар. Слоится загар, слоится время. Когда Лера станет совсем белой все повторится:
Человек-Час откроет окно в купе,
Цикады все вместе заведут свои ручные часики,
Комары, как из тюбиков выдавят жальца,
Лера будет слоненком, если слоненок от слова слоняться, Человек-Час, глядя на проносящихся мимо поезда слепых, похожих на дома с закрытыми ставнями, скажет. “Женское наслаждение — это письмо маслом, наслаждение мужчины — акварельное письмо. Вот почему, когда ты шепчешь: Больше не могу! — я прошу тебя еще чуть-чуть. Акварельный мазок прозрачен, если наносится один раз, и я собираю все силы, чтобы его оттянуть, тебе же легко добиться своего оттенка, а число мазков может быть бесчетным”.
А там, где они прятались, конечно, не было ни постели, ни стен, но место это освещалось апельсинами, и бабочки в черном носили по кому-то траур. Смотрясь в круглый пруд, поставленный ребром, Лера сама стягивала с себя колготки, ложилась на зеркало. Кровь стоял в стороне, “Иди ко мне, — говорила она ему, — иди”. Он не двигался. И тогда она называла его по имени, и он подходил решительный, отрешенный, решето, орешек, склонялся над ней и начинал смеяться. “Смейся еще больше надо мной, я люблю это!” Больше всего у него светились глаза, на них летели мошки и красные стрекозы. Влетел один жук, но испугался и встал в ко-куцу дачи. Рядом в доме играли в нарды, и гуси, находясь в медитации, не решались войти в треугольную лужу.
Человек-Час взял перо, обмакнул его в чернила осьминога: “Аквалерия, помнишь, ко мне жались твои купальные трусики, когда ты снимала их под водой и укладывала ко мне под плавки. Помнишь, мы стояли перед банкой изабеллы на коленях, а потом ложились на камни и видели, как целые стаи светлячков летят к луне, но обессилев, синими блестками падают в море.
На берегу у нас был зонт, под ним ты делала себе бусы из мимозовых семечек, рядом под мандариновым деревом мы стелили одеяло. Ты ложилась в легком открытом платье, ты в нем еще больше была раздета, чем без него. Моя рука под подолом ласкала местечко, еще не успевшее загореть — эту белую, нетронутую загаром полоску, островок между чулками и трусиками, которых нет. Ты закидывала голову, моя самочка!” — Человек-Час обмакнул перо в чернила, которые видны только в Лерином проявителе.
“Однажды на твой обильный сок, блестевший на моем пальце, прилетели два мотылька, зацепились лапками за ноготь и окунули усики в вязкую пленку. Аквалерия, когда мне было пятнадцать лет, я не знал, что тебя мне нужно искать за оградой детского сада, и я блуждал в тех местах, в которых водиться ты еще не могла. Ты играла в мячик — я уже был измучен Слабаной Передок. Вот передо мной ракушки из нашей рапановой рощи: женщины, с розовой травой на спине, мужчины — с булыжниками в присосках. Слоится эвкалиптовая кора и сгорает, слоится твой загар и ты прячешься. И пока тебя нет, я наполню стакан изабеллой и зарою erci по самую кромку в землю; и когда ты наклонишься к нему, то увидишь острые ногти солнца разбивающиеся Икарами брызги тебе легко будет пройти взглядом через весь мякиш земли, только приблизь свой карий узкий глаз…”
Кто-то невидимый почистил все апельсины, и стало темно. “Проводи меня, — попросила Лера, — я хочу домой”.
По улицам шли разноцветные люди и держали на нитках-шеях собственные головы. Если голова отлетала слишком далеко, ее подтягивали. Головы вертелись в небе и болтали между собой, а на самой улице было тихо-тихо. Но вот какая-то женщина не удержала нитку, голова вырвалась – и полетела, как воздушный шар. В глазах улетевшей головы был ужас: они выпучились, как у мертвой рыбы, они позеленели. И многие головы посмотрели сверху вниз на свои туловища, а многие заплакали, и пошел настоящий соленый дождь.
— Зайдем в подъезд, — сказал Кровь, — переждем.
Там Лера прижалась к теплой батарее и тихонько запела. Кровь взял ее руку, поцеловал. Но потом сел на корточки, пробрался под чулки и потрогал голые ноги.
—Не надо, я не хочу, — и Лера отстранилась.
— Нет, ты сегодня моя! — Кровь сжал ее и раздел на лестнице. Мимо проходили жильцы, они спотыкались от смущения и теряли головы, которые вылетали в открытое окно.
— Я не люблю тебя, но сделаю все, что ты хочешь, только скорей, — Лера застеснялась и прикрыла рукой груди.
— Но ведь это я научил тебя всему. Вспомни, как ты раньше скакала, не могла высидеть и пяти минут. Вспомни, экзамен у моря: проходившие мальчишки хотели подобрать ракушку, которую ты выставила сама, встав на мостик и зарывшись в песок. Ракушка не поддалась.
— Я же сказала, что сделаю все… только, пожалуйста, скорей.
— Скажи, что ты меня любишь!
— Ты очень хороший, и я для тебя подолгу стояла на мостике ракушкой кверху, это правда, но никогда мы с тобой не ели из черных чашек рапановый суп и не плакали вместе, глядя на совсем простые вещи: камни, угли, лампочки…
Кровь прижал Леру к ступенькам, развязал запасные мешочки и две пригоршни не влажных, а сухих мужских семян высыпал ей в волосы: “Вот так ты любишь, ну, кричи, кричи, скажи, что ты меня обожаешь!” — “Я тебя обожаю”.
Квадрат водил в лесу, березовом прозрачном, как у берега вода, и все-все было ему видно: кто — где прячется, и не нужно было ходить искать, а просто крикнуть: “Выходите, я вас видел!” И тогда Лера выбегала и звонко смеясь: “Пусть, пусть водит опять, он нас не видел, это мы сами вышли!” И тот, кто с ней прятался тоже кивал: “Да, да это мы сами, придется вам опять водить”. И Квадрат поворачивался к белому из берестяных лент стволу и считал до десяти.
На счет раз он слышал Лерин шепот: “Сюда, сюда!” На счет два — как они падали то ли споткнувшись, то ли нарочно. И потом на три, четыре, пять было тихо. На шесть, семь и восемь он догадывался по звуку, что они целуются. На девять открывал глаза, и на десять раздавался ее веселый голос: “Как же ты быстро считал, мы еще не успели спрятаться, води опять!”
Дорога ведет к дому, Лера забегает вперед и спрашивает у Квадрата: “Ты ведь всегда-всегда меня искал, когда я пряталась, правда, это правда?” Дорога узкая и неровная, как кольцо с зернью.
— Пока ты пряталась этой зимой, ко мне в наш лесной дом приходила девочка. В первый, самый холодный месяц ты пряталась недалеко, и я только сажал девочку на колени. Потом ты стала находить более укромные места, и девочка совсем привыкла ко мне и разрешала себя трогать. В самый теплый из трех зимних месяцев ты как-то не вернулась, и я не поставил девочку сзади себя на лыжи, как это делал прежде, а спросил ее, хочет ли она сегодня остаться у меня. Она не побоялась и кивнула. Я раздел ее сам, и постель приготовил сам: постелил чистую простынь, наволочку, потому что это была девочка. Я не загонял огненных лис наслаждения, не натравливал ни укусы, ни щипки. Я подпустил к ней его, сдерживая на девяти ремнях, но он сорвался и успел вцепиться в нее несколько раз, пока я снова подхватил ремни. Потом я сам помыл девочку: все смыл с ее ног, живота, лица, а рано-рано утром, когда еще было темно, отвез ее на лыжах домой и с тех пор больше никогда не видел.
Прятки — щупальцы!
Анри терпеть не мог, когда прятки превращались в глупости. Мадам де Рье вместо того, чтобы водить, уткнувшись в подушку, предпочитала однажды спрятаться вместе с Линьролем. Анри; не услышав мелодичного щелканья ее маятника-языка: двадцать один, двадцать два, двадцать три, — извинился перед женой принца Конде, оставил на минутку столь приятное место, выбранное ими обоими для пряток, аппартаменты герцогини Неверской, и столкнувшись с Линьролем, который возвращался, успев вдоволь наводиться с Рене, подставил ему несколько ядовитых иголок своей щетины. На следующее утро преподнес эту сушеную бабочку своей любовнице: “Оставьте это себе на память, и впредь не нарушайте правил. Свой ебарий советую вам больше не пополнять”.
Прятки — щупальцы!
Решила перенести назавтра поездку в Кремон, а на ночь остаться в Бричиа. Амлен, спустившись с верхнего этажа, увидел перед постелью мадам Бонапарт столик, накрытый на троих. “Третий, — пояснила ему Жозефин, — бедный Шарль, закончивший свою миссию в Бричиа. Шляпа и оружие, забытые адъютантом в салоне перед спальней, подсказали ему, что прятки в самом разгаре, что он — водящий, но ни к чему было считать или выкрикивать громко: “Пора?” — потому что комната, где пряталась Жозефин, охранялась гренадером, который не принимал участия в игре, на вопрос Амлена: “Кто вам отдал такой приказ?” — просто ответил: “Горничная мадам Бонапарт”.
Ипполит вертел Жозефин, как заморскую диковинку, загадочность которой манит, но отталкивает бесполезность. Мягкость любовника совсем разволновала мадам Бонапарт.
— Ты меня не хочешь, — заплакала она, — я вижу, что ты меня не хочешь. Слезы размочили Ипполита окончательно. Он всегда наступал “Свиньей”, с торчащим вперед рыло м. Сейчас эта комбинация не годилась. Боясь потерпеть поражение, Приятный Друг прилег и нацелился на спину, которая так возбуждала его во время ужина, но от ее холеной белизны замерз, как в снегу. Он хотел выждать минуту, а потом повести наступление с тыла, то есть со стороны грудей. Замысел рухнул, как только Жозефин села и вопросительно посмотрела. И тогда ее приоткрытый рот, провалившийся в пышную прическу пробор, закрытые глаза — напоминали ему пизду недавней подружки. Всунул рыло и дососал. И вещи затеяли игру в прятки.
Трусики НеЛаиры спрятались в пояс сестры и загородились резинками. Туфли НеФебеи завернулись в брюки Поллукса, выставив лишь узкие мыски. Но два платья сестер, задрав легкие подолы, лежали открыто. К ним устремились рукава рубашки смертного брата. И мокрая зимняя шапка Кастора как-то очутилась на комбинации НеФебеи. Уткнулась в лямочки, промочила их, втерлась ворсом в кружево. За чашечками лифчика сидели два парадных костюма. Сзади на юбку навалились сапоги и всю ее измяли. И только одно пальто неловко висело на вешалке и загораживалось воротником — водило. Прятки — щупальцы! Море расстегнулось, откинув полы-волны, и пуговицами в разные стороны полетели камни.
Малюски загородились щитами.
Небо ободралось о самолет, и красная царапина не заживала несколько минут.
Цикады выбрали патрульного, и он до утра наигрывал на свистке.
Пальмы наточили о солнце ножи и резали на куски влажный воздух
Лаяли гуси. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века