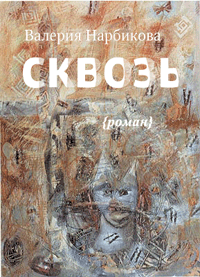НАЧАЛО РОМАНА – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА – ЗДЕСЬ.
Дождевые капли клевали на подоконнике.
На бельевых веревках вертелись прищепки.
Красные и растрепанные у прилавков давились облепихи.
Двое из глубоких рапанов только пригубили вино.
Собаки, служаки, писаки грызлись в очереди; очередь разлагалась с головы и плодилась с хвоста.
Потягивая из устьица вино, она стояла лицом к колодцу, он — перед натянутым, как экран, письмом.
Над колодцем в небе появилась самая знакомая родинка, в письме были такие слова, что лучше бы закричал петух. Строчки болели падучей, запятые торчали, как ложки, и не хватало носилок-тире, чтоб все это перенести.
Очередь метала икру. Выходящие яйца, оплодотворенные руганью и плевками, намазывались на ее бородавчатую спину, раздражали кожу, и складки принимали форму шестиугольных ячеек, вроде пчелиных сот. Когда они сверху закрывались крышечками, очередь замолкала. Это длилось недолго: скоро, прорывая ячейки, показывались руки и ноги новорожденных. Младенцы осматривались и становились в хвост. Тогда очередь переворачивалась, ложилась на спину и терлась об асфальт, стирая остатки ячеек. После линьки обретала свой привычный цвет: темно-бурый со спины и светлый с брюха.
Также глубина колодца не равнялась глубине письма, оно было мелкое и мутное.
Также посреди стола лежала поджаренная рыба, с пастью, застегнутой на ремень.
Человек-Час взял Лерину руку и через ее линию жизни перешел вброд. С левого берега ему хорошо был виден весь план, оставалось только уточнить масштаб, но он ничего не спросил. Указав на письмо, пожаловался, что оно не горит. От школьницы, дурочки, оно обжигало: “Ну, что нашел .себе подходящую самочку, если нет, желаю успеха!” — так начиналось. — “Вот тебе! хочу, чтоб ты истекал малофейкой и барахтался в ней! а меня Саша целовал в грудь!” — эти последние слова были бы самой дешевой ложью, но из-за гадкого, вполне человеческого имени Саши их не брали ни спички, ни газовая горелка. Середина — безобразная была про то, что Саша пришел к ней в гости, как раз, когда дома никого не было, затащил ее в ванную и то ли на полу, то ли на табуретке, в общем… а когда она стала обзываться, то дал пощечину.
Ночью, когда устьица, смоченные вином, пересохли, Лера и Человек-Час устроили ложе из книг, которые больше не читали, вместо белья постелили писчую бумагу, легли и стали говорить друг другу:
— Ты сегодня на меня напяливался, как мой детский свитерок.
— Я люблю подробности твоего тела, твоей попки, живота, пупка…
Я не хотела об этом говорить, но расскажу, потому что больше не могу. Он — грузчик в любви, но я его ужасно захотела, особенно после одного вечера, когда в какой-то компании читала детские беспомощные стихи. Потом я о нем забыла, и вдруг он мне попался опять. Мы поехали в лес и там ходили босиком. На подстеленной куртке могло бы все произойти, если бы нас не спугнули.
— Мы вышли на солнце. А через час уже были дома, и его жена расстегивала легкий халатик, и я снимала туфли, и он снимал брюки. У нас с ним были одинаково грязные ноги. Я целовала его жену в губы, в лоб, в грудь, он называл нас то сестричками, то б… Воздухом он надул меня через рот, ее бил ладонями, она тихонько выла. Все, что он отдал мне, мы вместе раскатали животами, так тонко, как тесто. Потом он как-то рассказывал, что на многих подружек жены сажает кляксы, но у нас все было не так.
Человек-Час: Аквалерия. Я называю тебя полным именем, потому что вспоминаю, как в первое наше лето, ты тихонько, чтоб не разбудить меня, вышла ночью в сад, оглянулась и села под кустик. И когда ты зашуршала, я положил тебя на ладонь, как ежика, и погладил, я положил тебя за пазуху, как щеночка, и погладил. Я перенес тебя через громадное шоссе, полное машин, и отпустил. Когда же ты вернулась из кустиков и мы легли, молочная река размыла твои кисельные берега.
Лера: У меня киселек, потрогай!
Человек-Час: потом ты уже не стеснялась, и я слышал твои задорные струйки, бьющие в тазы и ведра… Я пойду немного прогуляюсь, лучше всего мне пойти на вокзал.
Он достал из бельевого ящика белую майку, скомканную, словно снежок.
По пути к вокзалу увидел распухший, искусанный мухами глаз фонаря.
Солнечные лучи свили под крышей вокзала гнезда Часы тикали рысцой
Человек-Час: Экватор моего мозга, нарывающий шов, распоролся, и два полушария медленно, как льдины, стали отплывать друг от друга. Я провалился в пропасть и вместе со мной провалились: гамма до-минор, нога с порезанным большим пальцем, шея с накрахмаленным бинтом, ревность, бездонная пиздонная женщина, каша с ошибками; из реки Конго, из двух разодранных половин червя, закапала в пропасть мутная жидкость. И когда все это провалилось, полушария вновь стали сближаться, и ударились. Индийский океан больше не выкипал и экватор стал заживать и покрываться коркой, и я запустил пальцы еще глубже, чем корни волос, чтоб эту корку расковырять. Солнечные зайчики хватались за что попало Люди линяли
Человек-Час: Я очень тебя люблю, Лера. Я знаю, когда зажигаются твои грудки-фонари, я знаю о местечке перед входом, оно такое мокрое, что даже лунатик проснется. Я никогда не спал под копирку, и я знаю, что говорить правду, значит без конца линять. Лера, на детских фотографиях твоя рука постоянно устремлена туда. Если ты заснешь, пока я вернусь, осторожно открою одеяло и увижу, что ничего не изменилось — твоя рука по-прежнему там. Я подглядывал за тобой в ванной сегодня и видел, твои губки были, как две помятые тряпочки. Впервые за долгое время ты надела белую рубашку, и положив мне на плечи ноги, спрашивала смеясь: Кто я? Скажи, кто я сейчас? Ты немилосердно приставала ко мне, желая чтобы я ответил что-то такое, что тебя сразу захлестнет, но я мог сказать только одно: Ты моя белая рубашечка. И когда у тебя с обоих плечей скатились лямки, я еще яростней зашептал: Ты моя белая рубашечка! и впервые все длилось недолго. Открыв окно, ты уткнулась мне в плечо и стала тихонько со мной болтать. Ты спросила, признавались ли мне в любви другие женщины. Когда я кивнул, но ничего не ответил, ты успокоилась, но потом я вспомнил, что одна девочка говорила про мои глаза синие-зеленые, я это сказал тебе и ты загрустила.
И то, что твои трусики так легко поддерживали всегда, выпало вдруг и разбилось. И ты вскипела, а потом остыла, а потом у тебя на лице появилась пенка. И катились костлявые колесницы, из выхлопных труб машин выкатывались велосипеды.
Лера, когда ты несколько лет назад уехала, и я, проводив тебя, возвращался один, мне попадались кошки с глазами-электронными часами, с зелеными прыгающими двойками и восьмерками.
Линять, линять, линять!
Ты рассказала как-то и я вынес, как вынес, впрочем, и сетку удушливых сушек, и прививки от Слабаны, все-все содержимое маленького гостиничного номера: ключ с деревянной грушей и твою наспех брошенную одежду на кривляющемся стуле и Его, человеческое имя которого ты почему-то скрываешь, но собрав из всех пробирок, из всех луж, ран — кровь для него — зовешь Кровь. Перешагнув, как через убитую, через свою юбку, очутилась в чужой семье сбитых вместе долек паркета.
— Иди скорей, — услышала его голос, — иди ко мне. — И подошла, и села на край постели. Если и хотела его, только с переносом, Хо — это открытый рот, это шерстяной звук, это где-то там не на диване, а далеко-далеко, за границей подушек. А на подушках Чу! Значит тихо, значит нельзя, осторожно — Чу! А вместе Хочу, без переноса не сложилось, не составилось. Но все произошло, и я вынес, как уже говорил, все под- и поверходеяльное. И не только… даже возвращение из гостиницы, когда в метро мальчик, сидящий напротив, расстреливал вас из ручного фонарика кругляшками света. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века