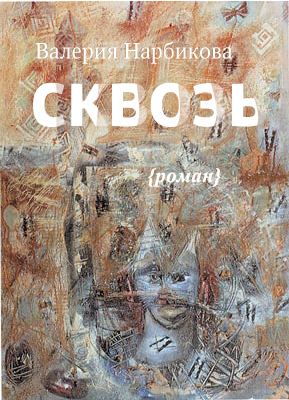
I
Большой квадратный стол, пестрый, яркий, как детский калейдоскоп. Меняющиеся блестки — это блюда и гости.
Лера встала, перекинула сумочку через плечо и пошла за черным Квадратом к двери. Он похитил ее просто: за порогом их не ждал, не кипел конь, они закрыли одну дверь и открыли другую. Разделась и позвала его к себе. У нее летняя, у-у-у, звука дудочки шея… за окном фонари — ямы, уводящие к желудку, бросаешь медь — звенит стекло, фонари, склоняющие кобровые головки и лижущие пятна собственного света, о, это не лампочки, хрупкие и раскачивающиеся от ветра. Оду — лампочкам! Села к нему на колени, взбила бумажные редкие волосы.
Они ласкали друг друга, и на подоконнике зимой пророс зеленый лук. Колени ударялись, как деревянные молоточки, на подносе стоял стакан с чаем, и лежала горка сахара. Оранжевый, словно веснушки, шел снег.
Они поцеловались, из деревянной конуры вышла собака и стала грызть миску с супом-льдом.
Поллукс и его смертный брат кинули сестер на одно седло, и втолкнули коня в круг. Круг — это единственное, что Рубенс угадал, потому что не было на животиках сестер тулупных ватных складок. Преградами коню служили закрытые окна. Окна не бились (пример из жизни птиц: комнатный голубь долетает до окна, его линию от окна продолжает голубь уличный — стекло цело). У дома смертный натянул уздечку, конь с девичьи стройных ног скинул сабо.
Мои Глазки, лежа среди бархатных черных подушек, похлопывал по высунутым языкам собачек и Малышку. Малышка дул в складки-трубочки муслиновых фрез, оставляя на них красные пятна от своих напомаженных губ. “Противная, преступница!” — и Мои Глазки легонько шлепнул Малышку по щеке, потом приподнял на ноге жужу, которая пискнула и легонько укусила его в чулок. Поцеловав в мокрые губы графа, король велел Розочке принести новые чулки.
Мои Глазки надулся, когда вместо Розочки увидел незванную Катрин Медичи. На ее восклицание: “Нужно действовать!” — он улыбнулся, пощекотал брюшко жужу, вспомнил о герцоге Алансонском и спокойно ответил: “Брата нужно просто убить”. Когда же вошел Розочка с чулками, король лежал на подушке, отдав ноги Малышке для переодеваний.
Что дальше? Анри приказал принести платье, расшитое жемчугом, крупными белыми зрачками, которые он прокалывал и укреплял сам, он разделся, и миньоны трогали его фиолетовые ребра — плавниковые кости рыбы-петуха. Потом он надел фрез и поманил к себе Саломею. Тот подошел, пританцовывая, покачивая бедрами-качелями, взял блюдце с головой короля и впился ему в губы. Накрашенные ресницы слиплись, когда король закатил глазки; когда же он, в дамском платье, с голыми ногами упал в руки Малышки и Розочки, а те проворно поволокли его, куртизанку, в постель — Саломея воскликнул: “Ваше величество, Вы прекрасна!”
Ночью король, заснув с сережкой и крестиком, подарком Мари, увидит в “ушко” сон-быль. Ушки-ракушки, выброшенные океаном и вправленные в стены Лувра, приоткрывают подводные тайны.
У пятнадцатилетнего принца одна из подосланных шпилек, потасканная, как музейные тапочки, похитила невинность и получила от Екатерины алмазный перстенек. После этого кукла-Анри был выпущен на сцену.
К малюскам служанок, холеным и несочным, Мои Глазки скоро охладел. И тогда по ночам стали устраивать серпантин. Катрин сердилась: “Вредит здоровью!” Но мальчики, все пустые, как бочки, хотели! На серпантин слетался почти весь эскадрон.
Бракосочетание Анри Наваррского и Маргариты казалось было устроено только для того, чтобы принц весь в мелких капельках пота (которые он через три года проколет и вышьет ими по бархату) разорвал невинную гирлянду танцующих и после фейерверка фарандолы вбежал в комнату соседнюю с залой, чтобы там промокнуть лицо сорочкой-бизе (кожица ткани прилипнет к его векам, талия кружев изогнется, и Анри припадет к грудям фетиша, как заговоренный).
Эта сорочка впору была только одной женщине, ее имя узнали в тот же вечер; и жена принца Конде стала являться ему то в образе теплой воды, когда он ополаскивал руки, то со склоненной головкой чайной ложечки, то все ее подплатьевое открывалось ему в щипчиках для сахара.
Катрин Медичи натянула поводок — двадцатилетняя Рене де Рье сделала реверанс: при поклоне ее груди наклонились, как от ветра. Куртизанка из летучего эскадрона должна была отвлечь принца.
Ушки-ракушки Лувра не украшались сережками — прикрывались вуальками: это завитки кресел, ширм, локоны девиц. Но все эти густые водоросли не скроют того, что два биллиардных шара: Мои Глазки и Рене — Катрин столкнула длинными и крепкими, как кии, руками. После чего мои глазки заказал поэту Депорту любовное стихотворение; м-ль де Рье ответила тем же — Депорт, почтовый голубь, проворковал.
Утро. “Его величество проснулась”, — объявляет Розочка. И мелкой крупой раскатываются миньоны по комнате. У них в руках платочки, губки с маслами, щетки. При виде падающей струйки воды Анри напрягается и никак не может вспомнить: кто это? Из рук в руки передают сорочку. Каждый хочет коснуться живота, ноги короля — причаститься. Конечно, натягивать чулки будет Розочка. Мои Глазки просит неаполитанские красные.
Они поцеловались зубами (в миске суп-лед), и он пальцами, сложенными расческой, провел по ее груди.
Ее мысли — стрелка указывали на постель, его один мысок — на суконный стол. Отнес туда, где через минуту кричала водопадом, бьющим в барабан.
В стелянном полу не отразилась мышка, майский сон Леонор Фини в девятилетнем возрасте — но град крупный, ледяной из ее глаз, не слезы — град.
Лысая гора. И Лера вырвала бумажную прядь волос, чтобы та принялась на его лысой капле.
Целовались зубами. Кто-то ходил под окнами и ломал лед.
Мягкий живот, на нем голова — лицом в пупок, в эту надежную пробку, которой закрыта ее легкомысленная там-там-там жизнь. Он хочет открыть пробку и все погладить там-там. Поэтому ждет, когда она встанет и пойдет под душ, чтобы подставить ладони (сь-пь-б-з-з-пь-сь). Подаст мягкое полотенце. Они оставят дверь в ванную приоткрытой, но никакая сила: плеч, ног, тарана — не захлопнет и не распахнет ее, ни на полкапли света щель не изменится. Положение двери примет строгую форму сенега — лошадиная сила тут ни при чем.
Анри встал, опираясь, как водяной жук, на сотню ручек и ножек миньонов. “Его величество встала!” Он скользит с их помощью по полу. На одно плечо впереди — его высокомерие, неповторимое, как скальп.
Вдруг Мои Глазки отрезал тысяченожки и подъехал к молодому человеку. Тот поклонился низко, сняв голову с фрез. “Сегодня, сударь”. — Король отъезжает, тысяченожки снова вырастают.
Этот новый заяц понравился королю на маскараде: его худые осиные ляжки, выступающий лоб. Анри заметил его взгляд, когда хлестал себя по голеням… голые ноги короля, венецианские штанишки…
С зайцами Мои Глазки поступал просто — брал за воротник. Книга уже открыта, ловушка готова.
Дурным вкусом считались м а л ю с к и. Словно абрикосы без косточек, они высыхали, морщинка на морщинке и целый мешок кураги, кислой-прекислой, сухой, мешок перевязан туго-натуго, стоит — никому не нужен.
Книга открыта — ловушка готова. Ловушка — сундук. Крышку захлопнут ловчие.
— Сударь, — заяц навострил уши, — не желаете ли взглянуть, (Анри что-то зацепил взглядом на дне сундука). Заяц подошел, пере гнулся через край сундука, ловчий -х-хло-п! Заяц взвизгнул, лягнулся… но Розочка, как самый опытный уже стаскивал о-де- шосс… ша почка-ток соскочила с головы зайца и заслонила все буквы в книге — читать он не смог, он только слышал тонкое, как шнурок, Розочкино пение.
— Сир, поглядите! — И Розочка запел еще тоньше: “Dentro — fliero, Dentro — fuero
Но когда он ускорил ритм и как один припев зазвучала:
“Dentro, dentro, dentro!”
Король откинул крылышки крамвуази и заткнул своим длинным холеным кляпом задний рот миньона.
Спустя час зрачки короля передвигались только с помощью костылей.
Сестры танцевали на тонких, как хоботки комаров, каблуках, вертелись — это мазки кисточки. Два брата — босиком. Продев руки, танцевали все вместе: уставом, готическим шрифтом и скорописью. К взмокшим телам сестер прилипли майки, и сквозь ткань торчали твердые, как вишневые косточки, соски. Касались друг друга спинами, слышны были звоночки, наверное, звонил тот, кто подглядывал в игольное ушко. Из брюк, порвав пуговицы, всплывали, как поплавки. Им хотелось разучиться плавать; и тонуть, но не в мелководье шейных впадинок и подмышек, а в засасывающих, всхлипывающих, хлюпающих воронках сестер, не дочерей Левкиппа.
Анри понадобились бы перчатки, если бы ему, как в детстве вздумалось взять сестру за ощетинившийся Herisson. Это сокровище Маргариты третий месяц по его приказу охраняли придворные лучники. По ночам королева Наваррская бредила; она рвала простыни, хрипела, плакала, поднималась на руках. Анри слышал, как поют, вожделея по узнице, коты. Слушал и молчал.
Анри понадобились бы перчатки, если бы ему, как в детстве вздумалось взять сестру за ощетинившийся Herisson. Это сокровище Маргариты третий месяц по его приказу охраняли придворные лучники. По ночам королева Наваррская бредила; она рвала простыни, хрипела, плакала, поднималась на руках. Анри слышал, как поют, вожделея по узнице, коты. Слушал и молчал.
Хотя Мои Глазки и забавлялся с придворными зайцами, все же он помнил детские галопады, круглый мягкий животик Марго, ее большого ежика, с которым она научилась обращаться уже в одиннадцать лет и охотно давала в руки обоим братьям: и ему, и Франсуа.
Узница, видя, как приоткрывается дверь, вывалилась, словно леденчик из обертки, Анри подобрал ее, положил за щеку и причмокнул. Чувствуя, что еще минута и ее раскусят, она заговорила сама. Мои Глазки слушал мольбы леденчика и нежно обсасывал его. Наконец, устав от этого излияния, он выплюнул Марго и посоветовал ей серьезно заняться музыкой и чтением.
Иголки ежика прокололи платье.
Она взмолилась, прося разрешения присоединиться к мужу. Анри, крепко заворачивая ее в фантик, окончательно объявил: “Мы с мамой заботимся о Вас. И пока Ваш муж остается гугенотом, Вам лучше быть здесь. Эту мерзкую религию я должен истребить”.
Ночью в Лувре собрались неприличные сны, беспризорные, как кошки. Они вели себя разнузданно. Сон Катрин подцепил где-то сон узницы, и они развалились перед Анри. Грязные и отвратительные, лежали перед королем вповалку и перемигивались.
Во сне Катрин с грудями навыкоте стояла у окна Она следила за крестьянином, подходившем к пушке. Тот озирался: туда-сюда. Но вот достал свой огромный ствол, кулеврина выстрелила, из дула крестьянина полилось. Анри сморщился и перевернулся набок. На боку увидел Екатерину, садящуюся то на пушечное дуло, то на крестьянское. Солдаты орали: Да здравствует кулеврина — королева-мать! Кулеврина— коратева-мать!”
Потом Мои Глазки увидел громадную голую улитку, выползающую из-под панциря, и вдруг оказалось, что это Марго выползает из-под плаща герцога де Гиза.
Сон Марго встал в полный рост, ему уже не мешала пушка. Теперь королева была в костюме мадам де Сов, то есть обнаженная по пояс, о, эта солдатская манера — выставлять свои доспехи. Из толпы долетали смех и возгласы: “C’est la plus grande putain du royaume!” отчего Марго делалась все веселее, чувствуя, что народ ее обожает.
Сон самого Анри, выгнанный с насиженного места, направился не куда-нибудь, а к Маргарите де Лоррен, и несколько часов подряд бедняжке снился королевский заяц. Ее же собственное виденье — к узнице, и Марго неожиданно для себя обнаружила среди ночи в ладошке годмише, это противное чучело, которым так часто утешалась мадам де Лоррен. Скоро чучело вырвалось, стало летать и воровато проникло королеве в рот. Там оно медузно каталось и щекотало. Потом раздвинуло колючки е ж и к а и стало подражать мизинцу, но это у него выходило вульгарно — Марго разрыдалась и проснулась.
И Нефебея вдруг проснулась. Она поцеловала спящую сестру и стала легонько трогать младшего брата. Он что-то зашептал во сне и открыл глаза.
— Иди ко мне, — позвала его не дочь Левкшша. Они обнялись, на потолке зажглась лампочка и полился, как из перевернутой чашки, свет. На любовников опустилось фиолетовое пятно целующихся Мунка.
Итак, Депорт, почтовый голубь, проворковал. Мои Глазки обнажал Рене, вырывая ее из ножен и напарывался на нее. Портрет м-ль де Рье не трудно вообразить, выбрав из трех работ: Лекюрье, Жака Белланжа и Ван Донгена несколько деталей. Конечно, она на желтом легкомысленном фоне, как Бриджитт, без ожерелий с растрепанными волосами — их набросает карандашом Белланж — глаза большие, как открытые рапаны — это кисть Ван Донгена. Вся одежда — вуаль из штрихов, накинутая на Даму с розой… и шляпка Лекюрье. Рене — носил всегда при себе, защищаясь ей от нападения других дам. И только при встречах с женой принца Конде опека м-ль де Рье была ему не нужна. Мари была единственной женщиной, не носившей имя Всеравно, имя, приходившееся впору всем фавориткам.
Когда же между посольских рапортов король нашел письмо, а в письме зайца, а в нем селезня, а в селезне щуку, а в щуке — яйцо, а яйцо выпало и разбилось — Мои Глазки сам завил волосы Луизе и повел ее в церковь. У аналоя на реплику режиссера: “Сир, головку немного выше!” — он только улыбнулся, а спустя несколько дней Анри публично осаждал Франсуа Люксембургского просьбой: “Кузен, я женился на вашей любовнице — женитесь на моей!” — Потому что в письме был заяц, а в нем селезень, а в селезне щука, а в щуке — яйцо, а яйцо выпало и разбилось, короче, Мария Клевская, жена принца Конде, умерла.
Утро-утро-утро — пробежали три часа назад мышки, полдень-полдень-полдень удалился последний толстый кот. Он, почтенный: всю ночь был в хозяйской спальне и лежал у Розочки в ногах. И Розочка видел во сне пышную свадьбу в Лионском соборе. Венчались его сын Бернал с Габриэль-Анжелик, оба преступные: Бернар по отцу, Габриэль по матери.
Тик-так, тик-так — миньон перед королем, тик-так, тик-так — Мои Глазки попросил неаполитанские красные. А еще Анри попросил оградить свое высочество от присутствия во дворце мадам Всеравно. Малышка и Саломея обобрали мадам: взяли помаду, румяна, сережки, чулки и выставили несчастную.
В коконе она не утешилась ни с чучелом, ни с подружкой. Играм Леонор Фини она так и не научилась. Игры: несколько катушек самых простых ниток, и главное отпустить на волю кончики. Все рисунки Леонор Фини, если и подражание, то танцующим ниткам. Мадам Всеравно, жена Малышки, Розочки, Саломеи — внутри катушки, как в коконе; три ее мужа —перед королем.
Сев недалеко от спящих, разложили перед собой акварель. Она сделала нежный мазок с протирочкой, смешав охру с ультрамарином, он обнял его черным полукругом. Она взяла губку и размыла синеву. Тогда он, смочив бумагу, заскользил к полукругу, оставляя кадмиевый след. Резким движением замкнула дугу и встала на стражу, укусив точкой лист. Его кисточка описывала круг за кругом, уходя все дальше и дальше от ее первого мазка. Как вдруг резким штрихом порвала дугу, положив густую персиковую черную, а ее, растерянную, с кисточкой в руках перевернул в воздухе, как рыбу, и поставил на четвереньки. Увлажнив свою ладонь, провел по ее рту, краснота губ проявилась, волосы черным мазком легли на спину — персиковым черным.
Из Малышки, накаченного, резинового, сначала вынул пробку Мои Глазки, а потом Саломея. Малышка сдулся. Розочка встряхнул миньона — спектакль окончился.
Собака, как белая поземка, вьется по лесу — ищет. Нашла! Легла на землю и забила лапами, как заяц в барабан.
Он подошел к Лере, ему понравился запах ее кожи. Взял за подбородок, открыл руками рот и подул в него. В глазах Леры пробило два пополудни. Посмотрела на него так, словно она не его жена. Откинул полы пальто, поднял и посадил Леру на себя. Собака взвизгнула, из поземки обернулась волчком. Лера съехала с громадной ледяной горы, такой длинной-длинной и холодной, как дамский ноготь, покрытый лаком, и пошла по реке между прорубей, разбросанных, словно медяки по дну долговой ямы. На другом берегу ее встретил Черный Квадрат. “Это я, — сказала Лера и прижалась к левой стороне Квадрата, к тому месту, где было сердце, — Король жестокий, у него за ночь вырастает ядовитая щетина, на нее накалываются такие бабочки, как Линьроль”. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
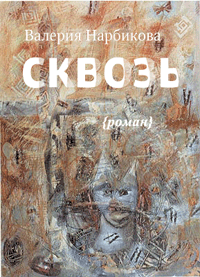

Лера, ты помнишь как таял
лед на гаражах, но все же мы умудрялись прыгать с одного на другой? Твоя проза похожа на наше детство. Всегда помню и люблю
Алена
Волшебница волшебного мира!