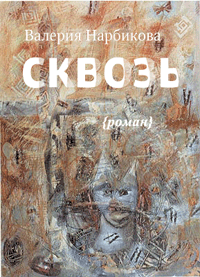НАЧАЛО РОМАНА – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА – ЗДЕСЬ.

Лунная дорожка, острое лезвие пилы, перепиливала океан — луна раскачивала пилу.
Люди-пололо, присосавшиеся к берегу: женщины — губами, красными, мокрыми, распространяющими запах икры, мужчины — присосками, скорее походившими на грибы с коренастой ножкой и крепко сидящей шляпкой, — казалось ползли на коленях.
Прилив смыл их в воду, и присоски стали всплывать на поверхность, собираясь в громадные розовые стаи, а тела, лишенные их, были выброшены на берег. Океан с розовыми островами напоминал обожженную кожу. Острова были подвижны: присоски палоло то выпрыгивали из воды, как рыбы, то ныряли, то всасывали друг друга. Наутро рыбаки, выловив эти полчища, соскабливали их с сетей и поедали прямо на берегу.
Квадрат сел на постель и перечеркнул одеяло, под которым лежала Лера.
“Зебб и Целочка жили. У Целочки были тоненькие ножки, короткое платье, смех, смех. Зебб — не готический, а с луковицей вершиной обожал Целочку. Однажды она вошла без стука, задрала платье и упала на пол, он надавил на-нее своей луковицей, полился сок, но Целочка не только не заплакала от луковичного сока, но засмеялась смехом: ах-хим-химмах. Зебб затвердел и опять надавил, но у Целочки там все было целостно, и она опять засмеялась. И так было всегда, потому что он ее любил, и она никогда не плакала от его луковичного сока, и глаза ее не были красными. Но однажды Честолюбие со стеклянными глазами, бешенное, укусило Зебба, и он захотел вместо норы из мха, огненных стружек — все бассейны, все мраморные полы, всех рыб, все глаза. И он позвал к себе в нору всех земных царей и лгал каждому ложь большой ложкой: “Для тебя царь хранила она чистоту, не было черной чесотки-похоти-хохота у входа”. И по желанию Зебба Целочка отдавалась всем готическим, всем заборам, всем разваренным макаронам, и цари озолотили Зебба. И Зебб на мраморный пол, где, как немые, открывали рты рапаны и выплевывали жемчужины, повалил Целочку, но теперь пленка у нее была из тонкого золота.! И он бился своей луковицей, пока она не расплющилась, и впервые от луковичного сока Целочка заплакала. И тогда мужчина разбил стены, зажарил рыб, растоптал жемчуг. Он скитался много-много лет, пока из всего накопленного золота не вылил себе золотую луковицу, и только тогда пришел к Целочке и разбил ее щит, и ей было больно, и она плакала от боли, и было много крови. И когда он окреп и вновь стал наступать, он не встретил сопротивления — вход был свободен, и он попробывал еще раз — дверка сбита с петель.
— Расскажи мне что-нибудь страшное, только самое страшное, — попросила Лера.
В доме напротив, там, где светилось окно, немец набивал своих тряпичных кукол металлическими стружками, гвоздями и булавками. Подводил им глаза, потом слюнявил красный карандаш и мокрым грифелем рисовал губы. И вся немецкая нация размалеванная, набитая валялась вокруг стула.
— Хорошо. Расскажу тебе о том времени, когда я дул на воду и от моего дыхания, как от брошенного камня, расходилось только пятнадцать кругов. Срез на воде, срез на дереве. Но мне давали больше лет, кто семнадцать, кто двадцать, считая, что у меня не дыхание, а метла. Один друг пригласил меня к себе на дачу читать стихи. Было так много народу, что даже висели на лестнице. И было много женщин, мне тогда показалось очень красивых и умных. Я читал долго, кажется, тогда хвалили, но это не важно, потом устроили ужин, а потом ко мне стали подходить и спрашивать, где я лягу спать, и женщины тоже подходили, и даже две самые красивые то ли серьезно, то ли шутя сказали: “Он, конечно, ляжет с нами, правда?” И когда меня уже куда-то потащили, ко мне подошел друг и шепнул: “Ну, все решено, ты ляжешь с …” И он назвал имя своей жены. Как это, — не понял я. “А вот так, — и он засмеялся своим милым смехом, — мы с ней договорились.” И я пошел в комнату, на которую он мне указал. Там стояло две кровати. Я разделся и лег, у меня никогда еще не было женщины. “Неужели, — думал я, — она вот так придет, а я тут лежу…” Но она скоро пришла, совсем чуть-чуть пошуршала и затихла. Я ждал, мы не разговаривали, что же дальше, почему ничего не происходит, как встать и что значит “мы договорились”. А вдруг она меня ударит или закричит, или заплачет, или рассмеется, что делать? Это была самая страшная ночь. Так ничего и не случилось. Когда уже стало светать, и я увидел, что она спит, я тоже заснул.
— Подуй сюда (Квадрат дует, срез воздуха напоминает мишень). Чайные разводы на чашках — желтые круги под глазами, чашки немытые с пьяными вповалку сваленными тарелками, ножи вспороли, и к лезвиям присохла икра, пиджаки с вырванными рукавами танцуют с разутыми девочками, мужик-медведь положил к себе на колени худышку и бренчит на ребрах, скрутив ей руки-цензурки.
— Ты никогда об этом не говорила…
— Я — среди лающих, червивых и красненьких маковых, среди поворотов и особенно среди стоптанных; я — звено многоугольника, но все идут и идут углы, вписываются в круг комнаты — завтра родительская суббота и на столе коробка с сахаром и свеча, свечка в картошке, свечка в яблоке, свечи — частоколы и верстовые столбы над едой мертвых, говорите тише, сидят сидят старухи, заговариваются, а на улице скользко, гадко, как в носу. Помогите! Но мужик-медведь и рядом с ним близорукий закатывают брюки и показывают отросты на ногах. У одних похожи на шпоры, у других на носики для надувания резиновых игрушек. На полу валяется сладкий, в комнатной пыли и в сухарях, и в перьях, сладкий без обертки, вываленный, кому нужен. Это целое племя, поэтому всем тонконожкам и смелым, и синеньким, как молоко, и сливкам они впустят одуряющую — кря-зря-враг-вра-ча! жидкость. Те со шпорами прижмут парочку, вонзятся и парочке станет так сладенько, климат теплый, лошадки байковые, зубы-па-стила. А те, с наростами-носилками откроют пробки — из ноги струя: больно, больно, страшно, страшно! Меня взяли трое в корзинку из рук: слюнявили, катали, пекли, пекли и запекли в пирог. И каждый по кусочку от пирога отламывает, и кто мою ногу, кто живот покусывает, а кто мой смех ест, а кто меня с щекоткой вместо приправы, а кто давится бусами моими, не верь никому, кто бы что про меня не говорил, ни полым, ни полным, половыми щетками причесана, половы ми тряпками укрыта, по всем полам ходила, половые доски задирала…
И сосут молочко тли, и распинают стекла на оконных крестах, и живут бритой жизнью, и умирают усатой смертью, и чуть разведенные ноги самой прекрасной с вставленным между ними большим пальцем — это всего лишь фиг… Но ручка той дамы из свиты императрицы Теодоры, мозаичная ручка с квадратом перстня! Я прошу, не гаси свет! Я хочу смотреть на эту ручку. И когда ты начнешь трогать меня, ручка дамы Теодоры отодвинет твою. Причастный оборот причащается всеми буквами главного, у всех шпилек из “летучего эскадрона” есть молочные, есть уже коренные зубки там-там, где у меня их нет, и они отгрызают все корешки ленивые и неумелые. М а л ю с к а без зубов — это у меня. И поэтому ты и Кровь и все бутылки и дверные ручки вертятся безнаказанно там-там. А шпильки широко открывают ноги, разжимают зубы, зажимают в капкан и щ-щ-щелк! ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века