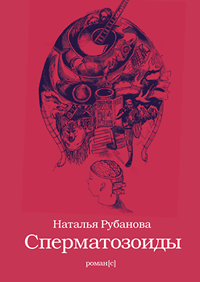НАЧАЛО и ОБЛОЖКА – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ – ЗДЕСЬ
«Она технично двигает табуретку к подоконнику, и, подначивая, хихикает: “Ну давай, давай же!”. Помогает подняться. Ничего не вижу: голова кружится от ее крика, очертания домов и людей расплываются… мне страшно, я боюсь ее, мне некуда деться: мне семь, Сана, мне семь лет, у меня наивные глазки и руки в цыпках, я не хочу жить».
Не обидится на В о л ч и ц у, проглотит ли? Сане кажется, что седая девочка, сидящая напротив, и впрямь может сменить кожу на серебристый мех. Волчица смеется: легко, тогда я буду называть тебя Little. Почему Little? Потому что ты маленькая… Я?.. Волчица цедит коньяк: на дне бокала – лодка, в лодке – пробоина. «Вода прибывает – грязная, мутная, такая же страшная, как и мать: да она сама эта вода и есть! Она хочет утопить меня, утопить в себе, а потом кататься на лодке с мужиками: у нее всегда было много мужиков, она всегда этим гордилась, всегда!..» Волчица трет виски. Ей нравятся голос и руки Саны. Голые руки и голый, без макияжа, голос: ей всё её – нравится, кроме, разве, глухого нет: «Только потому, что имя оканчивается на гласную?» – немой вопрос, застывший в зрачках.
Волчица осторожно касается лапой шеи Саны: Сану бьет током.
«Про интернат – не хочу: забыть, все забыть… И все-таки там лучше было, да, лучше, чем дома – я ведь боялась, что мать забьет до смерти, забьет от скуки… Иногда кажется, будто я до сих пор боюсь ее, а иногда… Представь: вот я подхожу… да, вот подхожу… подхожу к ней… Она трясется от страха: заламывает руки, смешно пятится… Я прижимаю ее голову коленкой к стене и протыкаю горло отверткой. Темная жидкость капает на пол. У гадины закатываются глаза: я не хочу, не хочу просыпаться… Тебе интересно, и л и?..». Сана тупо кивает: и л и повисает в воздухе, а вскоре и вовсе исчезает. Она с любопытством разглядывает существо, маскирующее под радужкой чип с застывшей в нем навсегда голограммой: грязно-желтая дверь с глазком-кормушкой, абсолютно пустая, голая камера, обшарпанный деревянный пол, танцующая в волчьем логове кукольная Гавана.
Год тысяча девятьсот шестьдесят четвертый: «Куба + СССР = love» – так красавец Хильберто попадает в стольную, где devochki любят иностранцев, так его сперматозоид сливается с яйцеклеткой russian woman, знающей о чистке in vivo не понаслышке, и потому выпускающей на волю плод больного своего воображения: «Рождаемость в Москве растет, а это значит, что на улицах столицы все больше детского смеха!» – скандируют СМИ. Сана видит, как скалит Волчица зубы, как стучит по полу хвостом, как поджимает уши…
Их разделяет лишь тончайшая пленка, сквозь которую можно разглядеть контуры темно-серых цементных стен да маленькое окошко с пыльной решеткой.
«Сдала подруга, – лает Волчица, – а упекла мамаша: в восьмидесятые за мокруху отсидеть легче было, чем по 209-й моей1… Я и правда не числилась нигде – складывалось так… сейчас-то полстраны безработных, и ничего, а тогда – тунеядство? Тут мамашин звездный час и пробил: подсуетилась, дело мне, как “паразитирующему элементу”, сшили быстренько… Я после школы-то вне социума долго жила: все любовь назад возвращала – ту самую, в детстве недоданную… Необычно, да, необычно и трогательно: и не важно, несколько часов ты без страха живешь или несколько суток; главное, какое-то время ты – вот так, просто – не боишься ничего… У них-то у всех мужья-дети, конечно, но разве это что-то меняет? Как поймешь, чего на самом деле хочешь, так путь назад и отрежешь… Истинное лицо-то свое многих поначалу пугало: кое-кто и в обкомах заседал. Барыньки холеные были, что говорить: хлеб – и тот в «Берёзке» покупали… по-своему несчастные: заборы дачные – выше неба, проволока колючая… Я деньги никогда не брала. Что-то другое – да, но вот конвертика – нет, не было… Любили они меня, все до единой – как могли, так и любили: “Ti amo moltissimo…”2 – на ушко: знали, что итальянский сама учила, больно язык нежный… Ну а потом – скоренько так – в бокс запихнули: и пикнуть не успела. Тесный-претесный, в стенах скамейки без ножек – и зачем потолки высоченные, думала, чтоб размазывало тебя сильней, что ли?..»
«Нас всех из воронка-то как вывели, так сразу на лестнице и построили – ну а потом по продолам3 погнали: страшенные они, длиннющие… Долго шли, и вдруг крик: “Стоять!” – опись имущества. Догола раздели; золото, у кого было, сняли… Шоколад тоже забрали: “Не положено”. Ну и обыск по всем частям тела: все резинки общупали, – а ноги я раздвигать отказалась: тогда приседай, говорят. Присела… Потом шмотки вернули, матрас с подушкой кинули, кружку с ложкой… 116-я камера, общаковская: хуже, чем в КПЗ – по размеру квадратов пятнадцать, нары двухъярусные из досок, параша справа открытая, слева – стол небольшой, пара скамеек… шестьдесят баб. Меня-то когда привели, все нары уж заняты были – на полу легла: холодно, страшно… Слава богу, девочка там одна была, худенькая такая, смазливая: всю ночь грелись – не так жутко вдвоем-то… Я ведь на самом деле не понимала, г д е нахожусь, что не понарошку все это – честно, не понимала! Четверо суток как в тумане. Бутырка… навроде приемного покоя больничного тюрьма эта; за наркоту с бандитизмом туда всё больше – на Новослободке, домами со всех сторон закрыта, ты не знаешь небось… Я-то с “елисеевцами” сидела: дело на них в восемьдесят втором завели – 154-ю и 156-ю шили4, ну а срока… срока жуткие: от десяти-пятнадцати до вышака светило; не простые это уголовницы… Помню, одно чувство у меня было – непричастности. Не просто к самому факту жизни, а к жизни вообще».
«Фамилия, имя, отчество, срок, статья… Через час быть готовыми… Через два разводят постатейно. На мне телогрейка и кирза – валенок не дают, даже в тридцатиградусные на зоне в кирзе ходили: вот и ревматизм. Ладно… Вывели нас, в воронок запихали – беспредел полный! Кто выступал – в “стакан” засунули: что-то типа клозета общественного, хуже только – зацепиться-то не за что, одни только стены железные в машинке той… а везли на запасной к Казанскому до-олго! Из воронка по одной выводили; между вагоном и – ха, а в т о – охрана с овчарками. Столыпинский – он почти как товарный с виду, только с одной стороны окна с решеткой, белой краской замалеванные, а с другой – сплошная решетка на весь вагон… Сутки по этапу везли: может чуть больше, может меньше, – а все равно казалось: вечность. На те сутки – на вечность ту – сто грамм хлеба да килька соленая; воды не дали – специально, что ли… А туалет сколько не открывали, один бог знает: охранник со швалью какой-то спал – в тамбур пакеты с мочой летели… Мы, пока ехали, с узкоглазыми этими скандалили страшно: да разве нормальный на работку пойдет на такую? Бог с ними… Не они страшны-то: пространство замкнутое. Безвыходность душеньку вдоль и поперек выела, да что выела – отбульдозерила! Говорят так – “отбульдозерила”, не знаешь?.. А говорили мы, кстати, мало – да и что скажешь: той жизни уже нет, этой – ещё… Шок: парализующий, жесткий, необъяснимый… по живой жиле шов безнаркозный… Помню, свитер свой женщине отдала какой-то – окоченела она совсем: много мы с ней километров-то в обнимку проехали – молча, будто языки проглотили. А в голове: жизнь кончилась, я никому не нужна, умрешь – и не узнает никто… “Окно открой!” – я и узкоглазому-то крикнула, только б тишину сломать, а он: “Ни паложина”, – и шаги, шаги удаляющиеся. – “Открой! Жалко, что ли? – мне девятнадцать, Сана, еще неделю назад я была, смешно сказать, москвичкой. – Открой, задохнуться можно!” – а сама глазами буравлю: сломался чурка: “Тольки ни долги”.
Несколько сантиметров свободы. Снег: нежней шелка, вот уж точно. Никогда такого не видела больше, нигде».
«Ну а потом – Мордовия, и все в обратном порядке: воронок, пересыльная в Потьме, “кукушка” столыпинская: четыре вагончика всего… Всего! Когда на зону-то привезли, я головой о стенку ударилась… До крови – все почувствовать хотела, не сон ли, на самом ли деле… Не верила долго очень, все в голове-то не укладывалось… Уложилось, когда без лица из “кукушки” вышла, когда с бабами, шмотье тощее волочащими, до пересыльной шлепала да мамашу с ёбарем ее представляла… Нас вообще-то везти должны были, но вместо машины охрану прислали с собачками: до сих пор как овчарку увижу, бежать хочется – сколько лет, а не заживает! Так, затягивается, но чуть ковырнешь, и по новой все… Осень стояла ранняя, да, у нас-то тепло, а там – снег с дождем, ветрище промозглый: холодно жутко – нет, не так: ж у т к о… Да еще рожи эти мордовские выставились – смотрят на нас, как на зверей в цирке… широка страна моя родная! И дерьмо в ней… дерьмо широкое. Лет пять потом, как срок отмотала, по деревням маялась: Тульская, Орловская, Владимирская… Коровники чистила, свинарники – прописку еле вернула московскую (спасибо “сестрам”, мамашу-то припугнули…). И вот же оно как все: людики добрые если о прошлом моем проведывали, так сразу, в двадцать четыре, с работки и вышвыривали: «Нам такие не нужны!». Ни на стройке не нужны, ни на дороге железной, ни в инфекции – из реанимации и то погнали, когда в город выбралась, хотя санитарок днем с огнем не найти было: кто ж по собственной воле заразных-то чистить станет?.. Тогда и дошло, что звери добрей людей-то. Понимать стала, что теленок говорит или, там, лошадь: они ведь и любить и жалеть умеют… А мы… да что там! Помост помню: высоченный, перегородками разделен металлическими… на него из стойла сгоняют. А как всех сгонят, так сразу меж глаз целятся – оглушают, значит. Ну, потом стенки-то загонные приподнимут – животинка и скатится. Ей, бедняге, по-быстрому сухожилие коленное перехватывают и вверх тянут: на полу одна голова болтается… Во-от. А потом – ток. Провод в голову – в то самое место, куда стреляли – в ту самую дырку: хоть третьим глазом назови, хоть как… Туда, в месиво это, чтоб связи между мозгом спинным и черепным не осталось: просветили люди добрые, что к чему… Корова одна, помню, брыкалась все… Теленок в кишках у ней запутался: ну а как кончилась, ее цепной пилой вдоль позвоночника и распилили…».
………………………………………………………………………………………………………………..
Волчье логово скорей уютно, чем не – наверное, здесь и впрямь хорошо зализывать выпадающие наружу кишки, думает, а потом перестает, Сана. И рада б уйти, да поздно: слова тягучие, длинные… и почему люди не говорят как киты – один звук на тридцать километров?.. Она остается, а утром обнаруживает рядом с собой Волчицу и трет виски: впору спросить – верх пошлости, pit’ men’she nado, – было ли у нас что-нибудь. Волчица оседает, ее шерсть моментально тускнеет: что такое б ы л о? что такое у н а с ? где искать это ч т о – н и б у д ь?.. Сухой щелчок входной двери. Волчий вой.
Улочки-переулочки, Волчица – следом: Сана выдергивает ладонь из ее лап – о, как легко сейчас снять с нее шкурку, растоптать! О, этот серебристый волшебный мех, эта потрясающая, едва ли не фосфоресцирующая, безоружность – и абсолютная, несмотря на наличие когтей и зубов, беззащитность!.. Нет-нет, унижение Волчицы станет лишь унижением Саны: нет-нет, качает головой она, пусть Lame na pas de sexe5, но «секс возможен только между товарищами по партии, всякий иной секс аморален»6.
«Что тебе нужно?» – спросит Сана перед тем как исчезнуть. «Любовь, – облизнется зверюга. – Разве нужно что-то еще?..». ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
______________________
1 Ст. 209 УК РСФСР – «Занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа жизни»; статья 209-1 («Тунеядство») была исключена из кодекса в августе 1975-го.
2 «Я так люблю тебя…» (итал.)
3 Продол – тюремный коридор.
4 154 ст. УК РСФСР – «Спекудяция», 156 ст. – «Обман потребитлеей».
5 Любовь не имеет пола.
6 А.Коллонтай.
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века