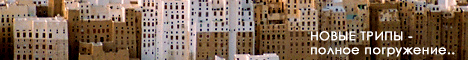В «Лос Дос» сидел лишь один посетитель. Он был одет в черное трико, а на голове у него красовалась широкополая шляпа с пером. Как только Принц и Олакрез появились на пороге, незнакомец стал подавать им отчаянные знаки. Принц приблизился.
Человек был очень худой. Его лицо все время двигалось, а тело, казалось, силилось повторить меняющиеся выражения лица. Про себя Принц сразу окрестил его «Танцующим Человеком». Когда человек открыл рот, Принц почему-то подумал: сейчас запоет. Но он сказал просто «Привет», и протянул руку. Потом мрачно кивнул на музыкальный автомат и сообщил:
– Музыка для чистки ковров.
– Что? – не понял Принц. Олакрез подошла и села рядом с ним. – Я ничего не слышу.
– Последний трек с альбома «Музыка для химчисток». Его всегда ставят в это время, потому что посетителей уже мало. А если сижу я один, так вообще не в счет. Могут даже включить мелодию для удаления трудновыводимых пятен! Терпеть не могу эту химию.
Принц посмотрел на бармена – тот вовсю занимался приготовлением кофе в здоровенной турке, но явно ловил каждое слово Танцующего Человека. Это было нетрудно – если не считать легкого гудения, которое начиналось на плите, в кафе царила полная тишина.
– Почему же вы не уходите? – спросил Принц, – раз здесь, вы говорите, ставят такую музыку?
– А она теперь повсюду, в каждом баре, – махнул рукой Танцующий Человек. – К тому же, «Лос Дос» – единственный бар в округе. Да, что там говорить – во всем Городе! Времена такие пошли… По телевизору, например, во время рекламы фоном часто ставят практичный пылесосный трек. Всю пыль в телевизор засасывает. А детям как нравится! Или, скажем, включают бодрый мотивчик для открывания пивных бутылок – обычно перед программой новостей. А людям, которые без пива сидят, бывает, что и крышу срывает.
– Крышу чего? – не понял сленга Принц.
– Дома, конечно. А если крыши нет, может и полголовы оторвать. Помните сказку «Волшебник Изумрудного города»? На самом деле, никуда Элли с Тотошкой не улетели. Смерча не было! Просто Элли сорвало крышу, когда она телик смотрела. Сейчас это обычное дело. Тут и там можно увидеть людей без крыши, не говоря уже о домах…
Бармен, буквально поедавший глазами нового знакомого Принца и Олакрез, похоже, как раз хотел им что-то сказать, но тут зазвонил дверной колокольчик, и он повернулся к новым посетителям.
– Ну вот, полюбуйтесь, – Танцующий Человек широким жестом указал на солидного господина, только что вошедшего в заведение под руку с эффектной брюнеткой.
«Голова!» – громким шепотом пояснил он. Принц присмотрелся – О боже! У бедняги не хватало доброй половины головы, – той самой, где хранятся мысли. Рот, нос, уши – все это было, а выше бровей как будто спилили. При этом господин, видимо, чувствовал себя неплохо: он как раз изучал винную карту, вывешенную у входа. Брюнетка же как ни в чем не бывало поправляла прическу и без особого интереса оглядывалась вокруг.
– Жуть, – только и смог произнести потрясенный Принц.
Танцующий Человек энергично кивнул. – Ах да, – он оживился, снял свою шляпу с пером, и представился: – Танцующий Человек, к вашим услугам. Я вижу, вы добрый малый, поэтому можете звать меня коротко, как все мои друзья – ТэЧэ. Вообще-то, я по профессии Канатоходец, поэтому некоторые зовут меня ТэЧэКа. Но мне это кажется слишком телеграфно. Официально, вы меня понимаете? – И тут же, не меняя интонации, добавил: – Может, закажете вина? Выпьем за знакомство?
Принц, раскрыв рот, смотрел на Танцующего Человека: у того не было половины головы. Это стало очевидно только сейчас, когда он снял шляпу, представляясь.
– Извините, кафе закрывается! – сообщил бармен посетителям, и когда те покинули заведение, закрыл за ними дверь. Он подошел к столику, за которым замерли Принц и Олакрез, и, немного подумав, тоже сел. Помолчали.
– Хотите кофе? – предложил бармен. – Я приготовил на всех.
Олакрез, все еще не сводя глаз с головы Танцующего Человека, кивнула.
А ТэЧэ напялил шляпу обратно себе на голову, и, ткнув пальцем в бармена, сообщил: – Познакомьтесь: Барсук…
– Моя фамилия Буцман, – спокойно проговорил бармен. – Я потомственный футболист. К сожалению, акула съела мою ногу на завтрак, – он кивнул на костыль, торчавший у него вместо левой ноги, – так что большой спорт для меня потерян. Вы угощайтесь, кофе бесплатно. Только налейте себе сами – я целый день за стойкой простоял, вы уж извините.
Олакрез поднялась и заглянула за стойку. Через минуту она вернулась с кофейником и четырьмя чашками.
– Простите, а как так получилось с вашей ногой, ведь… – неуверенно начал Принц.
– Это морской футбол, – уточнил Буцман. – На воде. От игрока требуется чрезвычайно быстро бегать, и помимо того, все время следить за акулами. Я вот не уследил.
Принц уважительно посмотрел на Буцмана, и ТэЧэ перехватил его взгляд:
– Он играл в сборной залива, был один из нападающих! Их команда называлась «Барахты С Бухты». Когда Барсук нападал, все болельщики тоже падали, чтобы поддержать его. Это было…
– Это было давно, – отрезал Буцман, – К тому же, по-моему, дети хотят спать.
Принц сделал отчаянный жест.
– Давайте прямо к делу, – улыбнулся Буцман. – Я хорошо понимаю, что вы пришли не пиво пить. Да и сразу видно – не местные. А гостиниц у нас нет ни одной. Так что я с удовольствием поселю вас в комнате наверху. Совершенно бескорыстно. Она как раз для таких как вы – приезжих.
– А что, других приезжих нет? – поинтересовалась обрадованная Олакрез.
– И не было! – гаркнул ТэЧэ.
– Давно не было, – поправил Буцман. – Вы на него не обращайте внимания, он путанской травы много курил, – сами видите, что она с головой делает. Он славный парень, хоть и без мозгов.
ТэЧэ улыбнулся – видимо, совершенно довольный такой рекомендацией.
– ТэЧэ не просто танцор, он отличный канатоходец, – добавил Буцман, — отхлебывая кофе. – А мозги ему и не нужны.
– Когда идешь по канату, лучше не думать, – подтвердил ТэЧэ.
– Кроме того, в особых случаях он доставляет вести с другой стороны, – продолжал Буцман. – Работа ответственная, и не пыльная.
Танцующий человек встал из-за стола, чтобы уходить, и приподнял свою шляпу в прощальном приветствии.
Олакрез не удержалась от того, чтобы ойкнуть.
И тут ТэЧэ словно вспомнил:
– А вестей-то не было! – воскликнул он, – Барсук, их не было!
– Вестей давно не было, – поправил Буцман. – Они приходят нечасто. Как я сказал, только в особых случаях.
ТэЧэ махнул рукой и вышел. Брякнул колокольчик.
– А откуда вести, господин Буцман? – спросил Принц. – С другой стороны – чего?
– Неба. Солнца. Зеркала. Разные отправители бывают, – задумчиво пояснил Буцман. – Ну, давайте сейчас не будем об этом. Пойдемте, я покажу, где тут что, и, наверное, пора ложиться: у нас с рассвета шумно. Да, кстати, надо коврочистку выключить, – пробормотал он, подходя к музыкальному автомату. И обернулся: – Между прочим, зовите меня Барсук. Так меня зовут друзья.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения