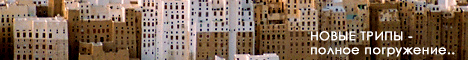Черный лимузин Ворона вылетел из-за угла и, хрипя шинами, развернулся перед подъездом. Коротко гаркнули тормоза, и блестящий лаком автомобиль рывком замер. За непрозрачными, тонированными стеклами – клубящаяся темнота.
В обледеневшем асфальте мерцало низкое серое небо. Промерзлый серый воздух, шипя, змеился из решетчатого радиатора, выбрасывая лишний холод из мотора.
Потом тишину глубоко разрезал металлический хруст – это Норов поставил на асфальт ногу в тяжелом цельнометаллическом сапоге.
– Жди на крыше, Воронок – гаркнул он в усы, не оборачиваясь, и захлопнул тяжелую дверцу.
По капоту пробежала быстрая дрожь – словно мелкая рябь прошла по темной воде. Лимузин выгнул спину. Затрещали, заверещали рессоры, кожисто скрипнули в один голос сиденья, звякнули в железных окладах черные стекла-зеркала. Автомобиль встал на дыбы, передние колеса закрутились в воздухе, круглые фары подернулись мутной поволокой светоотражателей, горящие лампы потухли. Машина конвульсивно дернулась, заваливаясь на спину, и в этот момент словно черные искры брызнули во все стороны: она исчезла – и вдруг обернулась большим, когтистым чучелом ворона с железными перьями и стеклянными глазами.
Из раскрытого клюва, забранного решеткой радиатора, сбежала струйка отработанного машинного масла. Массивные когти на лапах, покрытых темной кожей, повторявшей рисунок автомобильных покрышек, скребанули землю. Присев для разгона, Воронок тяжело взмахнул железными крыльями и, оторвавшись от земли, взмыл в воздух.
Отмеряя свои обычные тридцать шагов до Минус-Сердца, Хозяин разглядывал прочную кладку мостовой – своим единственным живым глазом: вместо второго зиял провал, заросший мелкими черными бусинами. И вдруг он почуял в воздухе какую–то угрозу. Словно на него кто-то смотрел сверху, кто-то невидимый. Ворон поднял голову: нет, ничего… На площади никого не было, да и не могло быть: комедиантский час уже наступил, все граждане сидели по домам и смотрели ежедневную комическую телепередачу.
И все же, Ворон чувствовал, что кто-то есть рядом. Порыв холодного ветра взъерошил двухдневный черных пух на его скулах. Нервным, дерганым движением он пригладил клювом перья. Заныло у него внутри: это шевельнулась засевшая под сердцем королевская серебряная дробинка. Но король давно лежал в асфальте. Кто же ты?! Где ты?!
Половину неба над городом закрывала гигантская перевернутая пирамида Минус–Сердца, к стеклянным дверям которой тяжело шел Хозяин. Первые тринадцать этажей, расположенные уступами, были светло-серыми – цвета чиновничьего костюма, следующие – уже темнее, цвета военной шинели, а еще выше – туда, к блестящему металлом основанию, на котором располагался правительственный аэродром, вели еще тринадцать этажных «ступенек»: одна чернее другой.
Верхнюю кромку здания с земли было почти нельзя рассмотреть: она находилась выше постоянной линии смога. Окон в здании не было, как и во всех остальных домах в Сером Городе. Но на самом верху, на последнем этаже, который занимал Ворон, в его личном кабинете все-таки было одно-единственное окно. Ворон прекрасно видел в темноте, а свет его только раздражал. Это окно, закрытое стальными ставнями, он открывал только иногда – чтобы зарядиться злобой, чтобы не забыть своего непокоренного врага: ясное, ясное небо.
Оглушительный артиллерийский залп отвлек Ворона от беспокойных раздумий. Взрыв, другой. Грохотали пушки, изрыгая в ржавый воздух ослепительные шары противовоздушного огня. Воздушная тревога! Огонь велся почти по самому зданию Минус-Сердца, и всполохи взрывов озаряли его непоколебимый перевернутый треугольник. Но где же враги?!
Острый глаз Ворона различил за верхней платформе крохотную фигурку, почти точку – это сидел, вцепившись стальными когтями в размякший на солнце асфальт взлетной полосы, Воронок. Но не летающая машина интересовала сейчас Ворона, не точность выполнения приказа волновала его – потому что ослушание Хозяину и так было невозможно, немыслимо: даже слова такого не было, «ослушание». Пристальное внимание Ворона привлекло другое. А именно – как же это называется? Нет, не пакет, который носит ветер. Не дырявая простыня, выброшенная со второго этажа. Не сорвавшийся с привязи бешеный метеозонд… Облако. Да-да! Забытое слово – «облако».
В окружении бесполезных взрывов, крохотное, круглое, пушистое белое облако победно летело над Городом.
Глаз Ворона буквально впился в это странное явление. Над Серым городом давно уже не бывало облаков. Не туч: серых, грозовых, или предвещающих бурю – такие позволялись – а именно облаков: сахарно, снежно-белых, как это вот – таких не было со времен последнего Короля, закатанного под асфальт принародно. «Ослушание!» – пронеслось в голове Ворона.
Со времен того самого листопада не бывало в Сером Городе ни облаков, ни дождя, ни снега, не говоря уже о солнце. Вот уже тридцать лет с неба падали только птицы, сдохшие на лету. А еще, к слову сказать, зимой иногда – в самые ясные, самые безжалостно морозные ночи – проступали сквозь вечный смог редкие звезды: казалось, словно на сером войлоке поблескивают шляпки гвоздей. Но на небо никто не смотрел: после просмотра комической телепередачи все засыпали.
Сверху раздавался едва различимый ржавый скрежет. Чтобы легче было пристрелять орудия для отражения воздушных атак, само небо давно было поделено на сектора железными цепями, протянутыми между навеки зависшими над городом бронированными дирижаблями Службы Спасения, с черными крестами на бортах. Воздушных атак до сих пор не бывало, но кто знает? Вчера вот, например, сладкий – подумать только! – снег с неба пошел. Отряд Допустимой Самообороны – элита Службы Спасения – естественно, произвел заградительные залпы, а что толку? А вот теперь еще это – «облако».
Ворон единственный во всем Городе помнил те дни, когда по небу вместо бронированных дирижаблей плавали облака. Единственный помнил, как солнце золотило воду в каналах, зажигало окна домов. Помнил, какие весной чудные запахи разносились по всему городу. Помнил, как море плескалось, пока на его месте не организовали городскую свалку. Он единственный помнил это еще и потому, что почти никого с тех пор не осталось. Или почти никого?
Ворон был господин сам себе, и Хозяин над всеми и всем. Только одно ему было неподвластно: собственное.. «Как же это называется?!» – мучительно вспоминал Ворон под грохот канонады… На «О»… «Ослушание», «облако»…
Ворон вспомнил уже третье за сегодня слово на букву «О». Странное. «Один-очи-ствол». Один-очи-ствол был проклятием Ворона. Никто его не видел, но никто и не мог сказать, как от него избавиться – даже под пыткой не мог сказать… Ворон всегда чувствовал его у виска: невидимый Один-очи-ствол. И этот ствол холодил даже его холодную кровь.
Ворон посмотрел блестящим глазом на облако в сполохах пламени, на громаду Минус-Сердца, на замершего в ожидании приказов Воронка. Почувствовал дробинку под сердцем. И внезапно ощутил сладость вчерашнего снега во рту. Странное чувство зародилось у Ворона внутри. Чувство, похожее чем-то на вспышку взрыва: сродни радости. Ворон почувствовал, как Один-очи-ствол чуть отодвинулся.
Лицо из далекого прошлого всплыло в памяти Ворона. Образ заклятого, обещанного, вечного врага. Не просто лицо, а лицо, лицо, олицетворявшее все, что он не любил: ослушание, свет, солнце. Сжав когти в перчатках так, что брызнула черная кровь, Ворон вспомнил. Еще одно слово на «О».
– Олакрез! – оглушительно-громко каркнул он. Так громко, что охрану Минус-Сердца, уже державшую для него двери открытыми, отбросило к задней стене. Лопнул на проходной телевизор, нон-стоп показывавший комическую передачу в записи. Освещенное взрывами небо погасло, канонада прекратилась: даже бывалые бойцы отряда Допустимой Самообороны не смогли стерпеть крик Хозяина.
В зловонную пустоту пасмурного неба, спугнув стаи сизых летучих мышей, примостившихся вниз головой на каменных уступах башни Минус-Сердца, в облако, проникшее сквозь линию воздушной самообороны, Ворон каркал, раздирая звуками воздух: «О-ла-кре-ез!! О-Л-А-К-Р-Е-З!!!
Облако словно услышало его и – растворилось.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения