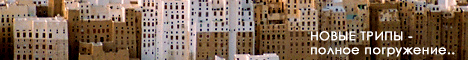– Ну, вот и пришли, – пробормотал Пролдж, вставляя дверную ручку, которую он достал из кармана, в заросшую раскидистой плесенью дверь.
– А не проще закрывать дверь ключом? – спросила Олакрез.
– Проще, – кивнул Пролдж. – Но надежнее – ручку с собой уносить. Тогда уж точно не откроют: некуда даже отмычку вставить. Когда был помоложе, вообще носил дверь с собой…
Они вошли в совершенно темное, неуютное помещение, которое сразу показалось Принцу огромным: по запаху. В нос им ударил сырой, землистый воздух пещеры.
– Ого! – сказал Принц, и эхо поддержало: – Ого, ого!
Глаза немного привыкли к полумраку. Принц успел заметить целую стаю крылатых крыс, которая сорвалась со своих насестов и, пролетев под высоким сводом, исчезла в дальнем конце тоннеля.
– Вы один здесь живете? – удивился Принц.
– Нет, с женой. А вообще, это общежитие, – отозвался Пролдж. – Но мы можем говорить совершенно свободно: соседи пошли в консерваторию, на «Явление пса». Заночуют, вероятно, под забором.
Они прошли вглубь пещеры. Здесь было еще холоднее – совсем, как в топке паровоза, который застыл на запасном пути. В топке, в которой бледные черви давно разделили между собой последний промозглый уголек.
Пролдж нащупал свисающий с потолка патрон и вкрутил в него лампочку, которую вытащил из другого кармана.
Лампочка зажглась. В узком желтом конусе света под лампой в красном абажуре стояла женщина одутловатого вида: крашеная блондинка в очках и короткой пластиковой юбке. Ее груди грустно смотрели вниз. Она была такой бледной, словно полжизни провела в темноте.
– Моя жена, Фыва, – отрекомендовал Пролдж блондинку.
Принц раскрыл рот, чтобы представиться, но Пролдж его опередил.
– Маньяки с Цветной стороны, – махнул он на них с Олакрез рукой.
Олакрез обворожительно улыбнулась.
Фыва раскрыла, было, рот: то ли от удивления, то ли от ужаса – но поймав взгляд Пролджа, закрыла его так быстро, словно туда залетела вкусная жирная муха.
– Проходите, пожалуйста, – промямлила она бесцветным голосом.
Они зашли в кухню, которая была совмещена с прихожей и ванной. Холодильник марки «13 вольт» с плазменной панелью показывал частное объявление: «Продаю щенков немецкой овчарки», и телефон.
– У нас кабельный канал, – пояснил Пролдж. – Садитесь уж, заговорщики!
Они сели за стол, покрытый газетами вместо скатерти. В тексте было множество пометок, подчеркиваний, исправлений и жирных пятен – словно скатерть читали уже не первый год. «Интеллигенты», – подумала со смешанным чувством Олакрез.
– Как мне добраться до Ворона? – напрямик спросил Принц.
– А у вас, простите, в квартире нет жучков? – перебила его Олакрез.
При этих словах Фыва упала в обморок. С ее ноги слетел клетчатый тапок.
Пролдж невозмутимо сгреб ее в охапку, оттащил к раковине и подставил ей голову под холодную воду. Олакрез взволнованно вскочила с места.
– Не беспокойтесь, это не первый раз уже, – успокоил ее Пролдж. – Просто у нас тут с жучками целая история вышла. Я ведь раньше в Минус-сердце работал…
Пролдж кивнул на вопрошающий взгляд Принца. – Да-да! В том самом. Так вот, мне по долгу службы полагались в квартиру жучки. А соседи, Подколодные, как назло, такие неряхи! Вечно у них крошки валяются на полу. Ну, и расплодились они…
– Сильно? – участливо спросила Олакрез.
– Сильнее не бывает, – уныло проговорил Пролдж. Фыва под краном зафыркала, и он ее выпустил. – Сильнее не бывает. Садишься на кресло – а кресло как провалится! Ложишься в кровать – а утром, глядишь, полкровати провалилось. Всю мебель сожрали! И даже нашу любимую Дианку. Ну, я тогда уже сказал, что этим дело не кончится. А когда у соседей пропал грудной ребенок-
Фыва всхрапнула всем телом и принялась пить воду горстями.
– Тогда уже я, конечно, пошел жаловаться, – продолжил Пролдж. – Жучков сняли, только и меня сняли с должности. «Не справился со служебным положением», – так мне записали в трудовую, – фыркнул он. – Ну, да ничего, я сам начал подрабатывать.
– А как, если не секрет? – поинтересовался Принц.
– Двумя путями. Для души – на снегу картины вытаптывал.
– Хорошие картины, – неожиданно громко поддержала Фыва, оторвавшись от раковины. По ее щекам текла синяя тушь, отчего она стала похожа на Пьеро, и непонятно было, плачет она или просто лицо мокрое.
– Хорошие, – подтвердил без ложной скромности Пролдж. – Меня даже один раз перед комической передачей по телевизору показали.
– А где они сейчас? – спросила Олакрез. – Можно посмотреть?
– Иных уж нет, а те – далече, – процитировал Пролдж. – Понимаете ли… Некоторые, вон, живут как Вовка Подколодный, – мрачно, с внутренним надрывом отозвался Пролдж и махнул рукой, – текут себе, как говорится, под стоячий камень. Стиральные машины немецкие покупают.
Фыва энергично закивала.
– Но я не из таких, – закончил свою мысль Пролдж. – Я живу не напряжением в 220 вольт. Не 1.000 оборотов в секунду! Не загрузкой в 5 кэгэ! Я живу напряжением всех душевных сил, ведь я человек образованный. «Диалоги» Платона читал, «Антонимы» Антония, «Сокращения» Сократа…
– Он сразу свои картины затаптывал, – пояснила Фыва. Она поставила на плиту плутониевый чайник «Конверсия-238».
– Чтобы другим не довелось, – пояснил Пролдж. – Жалким, серым людям…
Принц поглядел на него с грустью. Олакрез пронзительно смотрела на Фыву.
– А чтобы совсем не уйти в эмпиреи, параллельно мастерил детские головоломки, – пробормотал Пролдж.
– Такие, знаете, шлемы, чтобы стискивать голову, – начала Фыва, но поймав взгляд Пролджа, замолкла.
На плите закипел, засвистел и начал вращаться на своей подставке чайник. Фыва скорей схватила свинцовое полотенце и сняла его.
– А что будет, если не снять? – полюбопытствовала Олакрез.
Фыва и Пролдж переглянулись.
– Прожжет плиту, наверное, и провалится в тар-тарары, – ухмыльнулся Пролдж.
– Это где? – не понял Принц.
– Под котельной. Там татары работают, – без особой уверенности ответила Фыва.
Она открыла холодильник и достала оттуда четыре глаза размером с куриное яйцо. Потом вытащила алюминиевую вилку из горшка с пальмой (из открывшейся дыры немедленно высунулся красный червяк), и принялась разбивать глаза в сковородку. Потом взяла с тумбочки толстую книгу и стала что-то в ней искать.
– Жена у меня выдумщица, – не то издевательски, не то с гордостью ухмыльнулся Пролдж, – глазунью и то без поваренной книги сделать не может.
– А что, помогает? – участливо спросила Олакрез у Фывы.
Фыва обернулась, поймала ее взгляд и лучисто засмеялась. – Если книга хорошо поварена, еще как!
– А у тебя хорошая книга? – поддержала тему Олакрез.
– Еще бы! – улыбнулась Фыва. – Кило шестьсот весит!
Разговор иссяк. Глаза бешено вращались и аппетитно скворчали на сковородке.
Фыва собрала очистки с глаз и бросила под раковину. Оттуда раздалось животное чавкание и сытная отрыжка.
Олакрез прямо подскочила. – Кто там у вас?
– Сухопутные свинки, – отозвался Пролдж, закуривая папиросу.
– Желаете? – Он предложил Принцу портсигар. – Настоящий папирус, египетские!
– Я не курю, спасибо, – отозвался Принц.
– Сухопутная свинка, – продолжил Пролдж голосом любимого телеведущего. – Мелкая тварь дрожащая с гладенькой мокрой кожицей. Достигая половой зрелости, обзаводится меховой шубкой. Чем симпатичней свинка, тем легче ей обзавестись шубкой, таков закон природы. Некоторые особи так до самой смерти и не могут позволить себе шубку, а другие живут очень весело, меняя по несколько шубок каждый год.
– Они едят отходы? – спросил Принц.
– Да, пожалуй, не только отходы. Все, что им ни дают, – выпустил дым Пролдж. – Практически, ВСЕ. Мы когда здесь ремонт делали, они тридцать мешков строительного мусора аннигилировали. И знаете, ничего, только черными пятнами пошли… Так вот, я теперь даже думаю – так сказать, post scriptum, что, может, это соседского ребенка не жуки мои сгрызли, а соседи сами же, твари подколодные, свинкам подсунули…
Тут он заметил, как жалобно сморщилось лицо Фывы, и посмешил сменить тему.
– А вот вы спрашивали, как это Цветной Город стал Серым. Позвольте, я вам кое-что покажу.
Они пошли в кабинет Пролджа. Тут и там валялись модели головоломок с кожаными ремнями и решетками для лица. Олакрез тревожно сжала руку Принца.
Пролдж привлек их внимание, показав на большой черный шар на подставке. – Как вы думаете, что это?
Принц подошел и дотронулся до шара. Тот слегка повернулся на своей оси. На обратной стороне мигала маленькая бесцветная лампочка.
– Глобус? – догадался Принц.
– Правильно! – похвалил Пролдж. – Схватываете логику серых людей? Это модель мира. Вокруг – чернота, ночь, а вот здесь – островок сумерек, Серый город. Единственное белое пятно на всем Черном шаре! Сюда слетаются грозы, которые прошли стороной, и непредотвратимые последствия невыполненных угроз; птицы, которые бегают на четырех лапах и слова на букву «Ы»…
– Тупо-графическая аномалия, – отрезала Олакрез.
Пролдж вежливо промолчал.
После ужина хозяева постелили гостям и сами улеглись – валетом, голова к ногам. Принц поразился их мужеству и супружеской самоотверженности: невыносимый запах натруженных за день ног повис в кухне, словно сигаретный дым. «Вот что называется «супружеским долгом» – в полудреме прошептала Олакрез Принцу на ухо».
Пролдж, кажется, услышал ее замечание и, прокашлявшись, предупредил:
– Не ходите только ночью на улицу, воздухом дышать.
– Ночью по улице ходят дикие голоса, – сонно поддакнула Фыва.
Принц обнял уже обмякшую Олакрез и погрузился в тяжелый, душный сон со странными сновидениями.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения