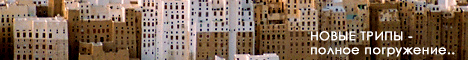Когда Олакрез было семь лет, она очень боялась засыпать. Она всячески оттягивала момент, когда придется это сделать. Корчила рожи в ванной перед зеркалом, читала книжки под одеялом, грызла яблоки, тихонько напевала что-нибудь себе под нос, жевала жвачки, а иногда просто садилась на подоконник и смотрела в окно, как шелестит темными листьями сад, а луна светится, словно большое круглое мороженое. Иногда Олакрез могла засидеться так до самого утра, когда Луну сменяет Солнце. Если с утра было ясно, Солнце появлялось красиво. Сначала тучи на горизонте зажигались розовым, потом всплывал красный шар, который желтел, светлел и наконец становился таким ярким, что невозможно смотреть. Посмотрев восход, Олакрез уже ничего не боялась и храбро ложилась в постель, чтобы моментально заснуть.
А боялась она потому, что думала: вдруг, вот заснешь, а тебя сотрут. Большим ластиком, старательно, до дыр сотрут – и не было! Вот чего она боялась, а больше ничего, даже соседскую собаку Бима не боялась – а он был злой, старый и сидел на длинной гремучей цепи.
Олакрез понимала, что людей не стирают просто так, тем более, если им всего семь лет. Но после одного случая она твердо решила, что это, как говорят взрослые, «не исключено». Олакрез не очень понимала, что именно значит такое выражение, и причем тут ключ. Но она знала, что «не исключено» случается несмотря ни на что, потому что папа говорил так маме, когда мама спрашивала, задержится ли он опять на работе допоздна. С папой «не исключено» случалось довольно часто, и поэтому Олакрез ему не очень-то доверяла. А случай был вот какой.
В тот первый и единственный раз, когда Олакрез ходила в школу, там был урок рисования. Учительница, полная нервная женщина, попросила детей нарисовать все, что придет в голову. Девочка, которая сидела рядом с Олакрез, нарисовала разноцветными фломастерами свою кухню – с розовой мамой, зеленым папой, фиолетовой бабушкой и темно-синим дедушкой. А Олакрез взяла простой карандаш и нарисовала большую черную тучу во весь лист. Она рассудила, что если рисовать линиями, то получится каляка-маляка, как иллюстрации в некоторых детских книжках, поэтому она просто стала ставить точки.
Точек было много. В центре тучи они словно жались друг к другу и одновременно нервно копошились, а по краям, превратившись в запятые, расползались во все стороны, как саранча. Олакрез, поразмыслив над своей работой, послюнила палец и немного размазала тучу. Получилось еще лучше: туча словно пропиталась дождем и набухла, как перезревший гриб. Олакрез была очень довольна: эта была самая красивая черная туча, какую ей когда-либо удавалось нарисовать.
И вот, учительница, посмотрев рисунок соседки Олакрез и поставив в углу листа большую размашистую пятерку красной ручкой, взяла в руки тучу Олакрез. Сначала она даже явно не поняла, что это туча: перевернула лист обратной стороной, словно искала там другой рисунок, потом поднесла листок к самым глазам… А потом до нее дошло. Туча висела посреди листа, готовая поглотить не только уголки светлого пространства, оставленные Олакрез, но и весь листок целиком, и казалось, вот-вот собиралась просочиться в класс…
В глазах у женщины потемнело, сердце сжалось в холодный комок. Учительница словно бы впала в оцепенение, а дети, затихнув, смотрели, как блестят на солнце ее очки в толстой черной оправе. Но потом преподавательница пришла в себя. Она метнулась к столу, судорожно стала рыться в ящике, нашла свой самый большой учительский ластик – размером с кусок мыла – и принялась стирать тучу Олакрез. Она терла добрых пять минут: сначала нервно и сразу во все стороны, потом увереннее и методичнее, и наконец, опять хаотично, истово, словно в трансе. Туча постепенно пропала, а лист стал выглядеть так, словно его жевал Бим. На нем теперь было только какое-то невнятное пятно цвета седины, кое-где протертое до дыр.
Один мальчик громко заплакал и стал звать маму. Тут учительница, словно очнувшись, подняла голову. С ее лба на стол капал пот, очки запотели, а глаза смотрели мутно, грозно и обреченно – они искали Олакрез. Но Олакрез в классе уже не было.
Когда учительница только начала стирать тучу, Олакрез как-то сразу и по-взрослому окончательно поняла, что не будет учиться в школе. Вообще. Эта была окончательность такого сорта, какие содержатся в слове «КОНЕЦ» в конце умной книги. Никому и в голову не взбрело бы с ней спорить! Окончательность словно взяла Олакрез за руку, вывела из класса, прошла с ней мимо туалетов по коридору к лестнице, по лестнице вниз и дальше – мимо продуктового магазина и стройплощадки – домой.
Дома Олакрез, не говоря ни слова, легла на кровать и стала смотреть в потолок. Она заметила, что потолок стал того грязно-серого цвета поседевшего весной снега, каким стала ее туча от учительского ластика. И все остальное, вокруг, тоже заметно посерело: игрушки, комната, ее собственное лицо в зеркале… Олакрез не плакала – только молчала, не отвечая ни на какие вопросы испуганных до истерики родителей. Мама с папой вызвали врача. Потом другого. Но те ничего не могли посоветовать, кроме как не отправлять пока ребенка обратно в школу – чтобы не усиливать, как они сказали, «стресс».
Но Олакрез не испытывала никакого стресса. Она молчала просто потому, что рядом с ней, чтобы она ни делала: смотрела телевизор, гуляла в садике, ела чипсы — все это время на расстоянии вытянутой руки стояла Окончательность. Густая, как туча из черных точек, только еще темнее. Окончательность ничего не говорила – и Олакрез тоже ничего не хотелось говорить.
Так же отчетливо, как то, что она никогда больше не пойдет в школу, Олакрез вдруг поняла, что через какое-то время – может, короткое, как день, а может длинное, как год – расстанется и со своими игрушками, и с комнатой, в которой жила, и с соседской собакой Бимом, и даже с родителями.
Наконец, Олакрез решила, что она, пожалуй, кое-что поняла – про «смерть». И вскоре Окончательность исчезла. Олакрез осталась совсем одна.
Поэтому она стала бояться засыпать. Девочка думала: вдруг учительница по рисованию узнает, где она живет? Придет ночью, потихоньку откроет дверь – или влезет через окно – и сотрет ее, Олакрез, своим толстым, белым учительским ластиком! А потом нарисует другую девочку на ее месте – набором фломастеров из шестнадцати цветов… Олакрез понимала, что если ночью совсем не спать, то утром глаза будут красные, и тогда мама решит, что она опять помыла их с мылом, чтобы лучше видеть. Но засыпать было так страшно!
В конце концов, в очередной раз найдя Олакрез спящей на подоконнике открытого окна, мама потеряла терпение. Она стала вся красная, позвонила папе на работу, и принялась кричать на него в трубку. А вечером, когда Олакрез уже лежала в кровати, делая вид, что засыпает, пришел доктор. «Дорогой доктор», как поняла Олакрез из разговора родителей.
«Интересно, — думала Олакрез, — он такой же «дорогой», как я? Ведь говорят же мне папа и мама: «дорогая Олакрез»? Нет, наверное, все-таки я дороже». От этой мысли ей стало спокойно, и она твердо решила не показать перед доктором слабины, хотя почувствовала, что родители его заранее немного побаиваются.
Наконец, Дорогой доктор пришел. Олакрез он сразу понравился. У него не было усов, и к тому же он был одет не в белый халат, а в костюм – как у папы, только еще красивее. Доктор улыбался, и от него не пахло сигаретами, как от врачей в поликлинике. Наоборот! От него приятно пахло печеньем. Дорогой доктор присел у кровати Олакрез, посмотрел на нее очень внимательно своими глубокими, как сентябрьские лужи, карими глазами, достал из портфеля большую коробку печенья и вручил ей. Печенье было с орехами.
Когда доктор закончил осмотр, мама спросила: «Ну что, доктор? Как ее зрение?»
— У вас очень впечатлительная девочка, — ответил тот с улыбкой, — Вполне возможно, что ей не подходит учеба в обыкновенной школе. Что же касается мыла в глазах, могу вас успокоить: видеть она будет замечательно… А некоторые вещи, – тут доктор заговорщицки подмигнул Олакрез, – вероятно, даже лучше, чем мы с вами.
На этой непонятной фразе доктор откланялся, а родители проводили его, немного смущенные, но одновременно и удовлетворенные. Все-таки это был Дорогой доктор, и от него следовало ожидать чего-то подобного.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения