Я лежал лицом на полу, и пол был очень холодный. По нему, словно диковинная паутина, пролегли узоры изморози. Как на стекле в сильный мороз.
Облачком боли вспыхнула переносица. Я закрыл руками голову, чтобы смягчить следующий удар. Но его не было. Я слышал только, как в кухне повисла тишина – не пустая, ватная тишина, как тогда, когда я только проснулся и подходил к окну, – а звенящая, настоящая, деревенская тишина, которая бывает когда вокруг мало людей. Этой тишиной было гораздо легко дышать: словно я нащупал вокруг себя воздух.
Я поднял голову и посмотрел на Олакрез. Она сидела на полу и размазывала по лицу кровь из разбитого носа – с выражением исключительного наслаждения. В ее взгляде светилось полное понимание происходящего. Я улыбнулся ей, и она кивнула.
Только сейчас, глядя на разбитый нос Олакрез, я понял, какое все вокруг серое, бесцветное, уходящее в черноту. Даже кровь. Олакрез словно размазывала по лицу черничное варенье.
«I found my freedom on blueberry hill» – вспомнился жизнеутверждающий мотив старой песни, – «On blueberry hill, where I found you…»
Мне вдруг стало невыносимо легко, и я засмеялся в свежую звенящую тишину.
– Девочка, девочка, почему у тебя такое глупое лицо? – хохотал я. – И почему ты вся вымазалась черничным вареньем?
Олакрез, зажимавшая нос, поперхнулась и тоже хихикнула. Я потряс ее за плечо и пробубнил дебильным голосом:
– Слышь, ты, курва черно-белая! Проснулась?! Ты хоть помнишь, как мы въехали в эту квартиру?!
Она хохотнула:
– В этот роскошный подвал? Откуда же мне, бесполезной твари, знать!
От смеха у меня свело живот. Я ткнул пальцем в настенный календарь, с которого свисали сосульки, и пищу:
– А как зима началась, помнишь, нет?! И вообще, какой сегодня день недели?
И снова просто падаю со смеху.
А она смотрит на меня и смеется – «Зима!». «Зима, – говорит, – восьмой день недели». И хлюпает носом.
Меня снова крючит смех.
Потом – фууф, отпустило, – беру ее за плечи и, глядя в глаза, говорю:
– А деревья, помнишь, как облетели?
Она тоже прекратила смеяться, и шепчет одними губами: «Да».
– Да! – хрипло говорит она, громко, гулко, на всю квартиру, и приподнялась с пола. Прокашлялась, – Помню! А ты?
Я говорю:
– Ага. А на улице, – видела, пульсирует, и слепит, и от этого хочется спать?
Она кивает.
Я смеюсь. – А ты еще спрашиваешь, что делать? Проснуться, уже полдела…
Она говорит:
– А я еще раньше тебя вставала, помнишь? Посмотрела, и опять легла, и не могла это терпеть, и плакала, помнишь? И мы опять уснули. Слушай, а ты… А ты помнишь, сколько мы спали?
Тут она задумалась. Посмотрела на плиту, на календарь. Один глаз у нее стал красный – видимо, сосудик лопнул. И губы дрожат. Закрыла глаза руками, да как закричит! Просто кричала какое-то время. А потом перестала, и подвинулась ко мне.
– Слушай, ну, мы же проснулись. – Говорю. – Мы проснулись, понимаешь? – Обнимаю ее. Мне так жалко ее стало, и себя тоже немного. Она ведь совсем взрослая, морщины даже на лице, лет тридцать ей. Куда же это ушло время? Она плачет, молча, и на ощупь такая легкая, прямо как сон. Стройная, даже худая. Я глажу ее по спине и думаю: бедная, взрослая, бледная женщина. А ведь ей было лет восемь в тот день, когда осыпались деревья…
– Кто же это? – шепчу, – Кто же это все сделал, а?
Тишина.
Мы помним. Она смотрит на меня ясным, морозным, лучистым взором. И мне становится немного страшно: я знаю, что мы будем делать сегодня. Ледяным, подземным говором, как на суде, говорю:
– Его зовут..
Имя уже клокочет в выдохе, выдувается между губ, но она прикладывает свою ладонь к моим губам. Ладонь пахнет черничным вареньем. Я целую ее. Потом меня встречают губы Олакрез.
А кофе шипит на плите, убегает и капает на пол, растекаясь пенистыми лужицами, черными, как кровь, и растапливает изморозь, сделавшую пол похожим на диковинную сверкающую паутину.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения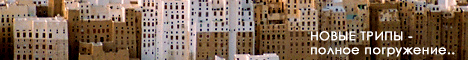


Просто черничное варенье улучшает зрение)