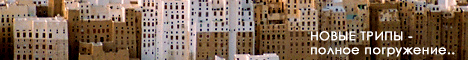Перламутровые капли срываются с краешка тростниковой крыши, и внизу, в лучах яркого солнца, разбиваются о темно-вишневые камни тротуара… Я сижу на краю колодца и любуюсь Городом: вот он весь, внизу, в долине. В эту минуту каждый дом, зажмурившись, доверчиво подставляет свое загорелое, в морщинах и ставнях лицо порывам теплого ветра и легким каплям дождя, которые, кружась в бесконечном, усыпляющем хороводе, неслышно сыплются из-под туч. Дома Города – они по-настоящему красивы сейчас – островерхие или с покатыми крышами, с обвивающими балконы позеленевшими от времени решетками или пахнущие свежим деревом. Так бывают красивы дети, играющие под струями городского фонтана в порыве бездумного, мокрого до нитки, сверкающе совершенного счастья.
Вокруг очень тихо. Я просто сижу, болтаю ногами, и ем земляные орехи, которые торговка насыпала прямо в карман. А когда мне хочется рассмотреть, скажем, какой-нибудь дом, расположенный на краю Города, уже почти что на склонах гор, я наклоняюсь и смотрю, как в подзорную трубу, сквозь звенья большой и ржавой колодезной цепи. Приходится держаться за цепь руками, чтобы не кувыркнуться в колодец, поэтому ведро внизу чуть раскачивается и плещется о воду, распугивая прозрачных рыб, всплывших из глубины.
Воздух холодно пахнет грозой. Я дышу, и не могу надышаться, что-то давит на грудь. Я весь день сам не свой, сердце мучительно просит дороги – неизвестно, куда и зачем. Я смотрю на решетчатую деревянную калитку своего сада: за оградой начинается мощеная камнем тропа, она взбирается на холм, огибает Город и – теряется в туманной дымке неизвестного – там, на гребне, где ветер гладит седые туманные волосы гор. Таким волшебством сейчас веет от этой тропы, калитки, от каменной дороги в заплатах желтых листьев! А вот вдалеке, над лесными полянами, засветилась радуга…
Город кружится в блаженной дреме, как усталый ребенок, заснувший на медленно крутящейся карусели, как падающий с дерева лист, кружась, опускается на свое отражение в глубине колодца. На Часовой башне мягко и вкрадчиво, словно во сне, бьет девять часов. Солнце садится в туман. В домах зажигают печи: сизые струйки поднимаются над крышами и, немного подумав, сливаются в одно облако. Эта дымка плывет над Городом, и кажется, что он под водой. А по поверхности этого призрачного озера проплывает караван перелетных птиц.
Где-то за домом залаяла собака, за ней другая – и вот уже добрый десяток желтозубых клыкастых пастей славословит скорый ужин – а может быть, жалуется на подступающие холода, отсюда не разобрать. Стемнело, пора идти в дом. Я бросаю прощальный взгляд на мое любимое дерево перед входом. Сейчас оно кажется еще темнее и старше, чем всегда. Нахмурившись, показав сразу все морщины, оно тяжело дышит – захмелело от пролившейся на него влаги, и дремлет, сжимая и разжимая скрюченные корни, погруженные в теплую, как шерстяной плед, землю, сложив на груди покрытые старческими пятнами и садовыми улитками сучья.
Открывая тяжелую дверь с большим стеклянным глазком, к которому кто-то углем подрисовал ресницы, я захожу в дом. Только один последний взгляд наружу. Эта картина стоит передо мной и сейчас, когда я уже почти засыпаю, сморенный мерным потрескиванием поленьев в старом закопченном камине: мощеная серым камнем дорога, которую из-за опустившегося тумана видно совсем недалеко, вся усыпана упавшими с деревьев листьями – такими же растерянными и желторотыми, как птенцы, вывалившиеся из гнезда; очень скоро по ним пройдет какая-нибудь лошадь, или проедет автомобиль – и тогда для них, все лето висевших под небом, тоже, как и для всей округи, наступит осень – сонная, дождливая, дышащая землей.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения