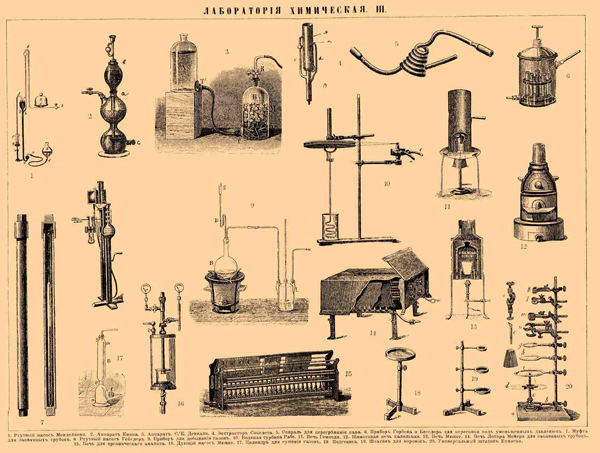Начало книги — здесь. Предыдущее — здесь
Надо признать: идиотизм некоторых граждан подчас угнетает! Оно конечно, что Лика обиделась за своих друзей… за себя (она тоже пишет стихи и тяготеет к этой стихии теней), — обиделась на мой пренебрежительный отзыв о милом их сердцу загробном мире, — обиделась и назвала то, что вы в предыдущем отрывке прочли, «какой–то советской мифологией». Ликин обиженный вздор еще можно простить, а вообще–то, меня раздражает, когда человек не понимая сути дела — не понимая ничего! — начинает нести черти что и обклеивать ярлыками реальность. Они думают, что если сказал «советская мифология», так уж и все — сразу этого нет. О, бедные люди! — да неужто же надо еще объяснять, что мифология остается мифологией, будь она ирокезской или советской. Надо только правильно употреблять слово — ведь мифология не вымысел! Это наша мифология — мы живем в ней. Вот говорят: «моя психология», имея ввиду устройство своей психики. Или: «моя онтология» — структура моего бытия. Точно также «моя мифология» — это те идеи и идолы, которые меня окружают, — где бы они, эти идеи и идолы не жили и из каких бы домов, улиц, трав и деревьев на нас не глядели.
Собственно, «моя мифология» — и есть эти деревья и дома, а если вы не признаете их, эти дома и деревья, своими, можете отправляться ко всем чертям.
Ни минуты не сомневался я в том, что написал Теофиль: «Подземная река течет сразу в две стороны и делит два мира»… Так как могут возникнуть сомнения в том, что по ее берегам ходят тени, с которыми ничего не случается? — мы ведь их видим, они нам знакомы (вот Марли), мы сами, незаметно для себя, можем перейти на их сторону и вернуться назад. Все это мы можем просто, наконец, осязать — так оставьте свои люмпенские жупелы насчет советской мифологии. Ни в каких экстремистских советах мы теперь не нуждаемся.
— А что же, если не метафора? — спросила Лика.
— В таком случае пророк Илия, перенесенный живым на небо, — тоже метафора…
— Конечно, а разве нет?
— Может быть, может быть… — Я достал сигареты, предложил ей одну. Затянувшись, она сказала:
— Странный вкус.
— Египетские, — ответил я.
Мы посидели несколько минут, покуривая. Потом Лика, склонив голову, протянула:
— Интересно! — И задумалась минут на десять. Наконец удивленно спросила: — Зачем ты приделал шпоры на башмаки?
— Какие же это шпоры? Это крылья!..
— Да, правильно, крылья… — И клюнула носом, уткнулась в колени…
Я встал, подошел, поднял ее на руки, перенес на диван, сел на место и стал наблюдать.
Как вам нравится эта моя метафора, читатели? Если хотите знать, я думаю, что литературу как нечто пустое и только метафорическое — давно пора уничтожить. Да ведь ее и уже нет — это я вам говорю, Гермес, специалист перенесения. Так перенесемся же на минуту в тот мир, который сейчас грезится Лике. Для этого вовсе не обязательно выкуривать сигарету с анашой — существует много путей и способов…
***
Итак, мы гуляем с Ликой по аллеям прекрасного парка (где–то я уже это видел). Она очень весела и дурачится — бегает, как собачонка, — вот убежала далеко вперед… Возвращается испуганная: «Там под деревом змея». (Согласимся, читатель, — можно уже догадаться, что будет дальше, — никакой фантазии у этой Лики). Поднимается ветер. Мы подходим к дереву. Это яблоня с райскими яблочками. Под деревом, свернувшись, лежит крупная гадюка. Мы стоим и смотрим. «Я хочу яблоко», — говорит Лика и трется щекой о мое плечо. Я обнимаю ее, глажу вдоль спины, хочу что–то сказать… и в это время змея поднимает голову, поднимается вверх, стоит на хвосте и — у нее твое лицо, читатель. И, читатель, ты говоришь: «Опять яблоко? — хватит уже!»
И действительно, хватит — сейчас такое время, что ни одна сцена искушения не обходится без этих яблок. Недавно я смотрел фильм, где даже работница санэпидстанции просит начальника выделить комнату для лабораторного анализа кала, — не просит, требует! — вертя в руках яблоко.
На что же надеются талантливые люди, когда помещают в кадр яблоко? А на то, что, глядя на него, мы, зрители, вспомним его кисло–сладкий вкус, и наши слюнные железы выделят толику слюны. На то, что рука наша сделает непроизвольное движение, как бы охватывая нечто с гладкой кожицей, округлое, приятное на ощупь. На то, что мы вспомним, как называется этот соблазнительный плод — то есть, в нашей коре (и подкорке) начнут пробегать какие–то токи, кодирующие там нечто вроде: яблоко — облако — лак — блако — благо — блок — бло — пло — пл — бл — кло— ябл — бля — ябло — кол — яблоко — еблоко — ебло — ибо — кол — яблоко — яб… — и так далее, пока весь процесс не перейдет к более древним простым и архаичным слоям нашей нервной системы (к спинному мозгу) и, перейдя, не закончится, купно со вкусовыми, а также тактильными ощущениями, отнюдь уже не призрачным зудом в… впрочем, понятно где — в кадре, где женщина–актриса играет своим спелым яблоком.
«Хватит! хватит уже» — говоришь ты, читатель. Тем временем ветер усиливается, яблоки сыплются градом на землю, одно из них бьет тебя по макушке, и ты в забытьи нараспев произносишь: «Мы живем, пока падает плод», — затем, вдруг, взвиваешься от земли и сладострастно впиваешься в Ликину ягодицу… Ликин визг! Ты удовлетворенно замечаешь: «Так вот в чем счастье — оно в паденье… — и уже устало добавляешь: — даже целомудренный Ньютон был искушен падающим яблоком, ибо закон всемирного тяготения……………………………………………………………………………………………………..
………………… — И засыпаешь, зевнув. — ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения